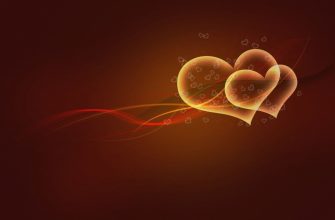Специфика смыслового построения рассказов Х. Борхеса
Рубрика: Филология, лингвистика
Дата публикации: 18.01.2016 2016-01-18
Статья просмотрена: 1988 раз
Библиографическое описание:
Ивлева, А. Ю. Специфика смыслового построения рассказов Х. Борхеса / А. Ю. Ивлева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 2 (106). — С. 899-902. — URL: https://moluch.ru/archive/106/25378/ (дата обращения: 30.05.2021).
Статья посвящена анализу специфики смыслового построения текстов Х. Борхеса. Выявляются основные элементы, формирующие двойничество культурного пространства художественного текста Борхеса.
Ключевые слова: интерпретация, реципиент, текст, двойничество, культурное пространство художественного текста.
Интерпретация художественного текста реципиентом в настоящее время приобретает все более сложные формы. Объяснений этому предлагается немало, одно из которых, например, связано с тем, что в последнее время все больше и больше исследователей предлагают рассматривать текст, используя комплексный подход. Несомненно, что интерпретация текста с сугубо лингвистических, или литературоведческих позиций, стремительно теряет свою ценность.
В нашей статье мы рассматриваем тексты Х. Борхеса сквозь призму теории культурного пространства художественного текста, разработанной в нашей докторской диссертации [1]. Феномен двойничества, предлагаемый современными исследователями для анализа двойственной природы текста и персонажа, способен прояснить многие проблемы, возникающие перед учеными, занимающимися особенностями культурного пространства текста.
О прочтении любого произведения, любой фразы художественного текста с помощью двойного зрения пишет известный аргентинский писатель ХХ в. Х. Борхес, чье творчество является воплощением двойничества. В своих антологиях и в оригинальном творчестве писатель хочет показать, на что способен человеческий ум, какие воздушные замки он умеет строить, каким далеким может быть «отлет» фантазии от жизни. В антологиях Борхес восхищается протеизмом и неутомимостью воображения, а в своих рассказах он, кроме этого, исследует гигантские комбинаторные способности человеческого интеллекта, разыгрывающего все новые и новые партии с универсумом.
Как правило, рассказы писателя содержат какое-нибудь допущение, приняв которое реципиент в неожиданном ракурсе видит общество, по- новому оценивая свое мировосприятие. Среди его рассказов есть предвосхищения, предостережения, интерпретации. В прозе Борхеса реальное и фантастическое отражаются друг в друге, как в зеркалах, или незаметно перетекают друг в друга, как ходы в лабиринте. Рассказы писателя нередко представляются своеобразными снами: во сне действуют реальные обычные люди, с которыми происходят невероятные события. Зеркало, лабиринт, сон — вот символы-образы, наиболее любимые Борхесом. Рассказы автора не раз подвергались классификации: то по структуре повествования, то по мифологическим мотивам, которые в них обнаруживали критики. Все это, безусловно, важно для литературоведческого изучения. Однако, на наш взгляд, самое важное заключается в том, чтобы при любой дифференциации не потерять главное — «скрытый центр», по выражению самого писателя. Многократно, в интервью, статьях и рассказах, Борхес говорил о том, что философия и искусство для него равносильны и почти тождественны, что все его многолетние и обширные философские штудии, включавшие также христианскую теологию, буддизм, суфизм, даосизм, были нацелены на поиск новых возможностей для художественной фантазии.
По существу борхесовский рассказ, построенный на двойничестве, метафорически предвосхищает быстрое развитие таких областей культурологического знания, как герменевтика или рецептивная эстетика. Чтобы не быть голословными, проиллюстрируем сказанное конкретным примером, в качестве которого можно избрать один из лучших рассказов писателя «Пьер Менар, автор «Дон Кихота». Если отвлечься на время от вымышленного Пьера Менара с его выдуманной литературной биографией, можно поставить перед собой следующий вопрос: о чем собственно идет речь? В отстраненной, эксцентричной форме здесь рассмотрен феномен двойственного восприятия искусства. Любое написанное слово можно воспринимать двояко. Глазами человека того времени, когда было создано произведение: зная историю и биографию Художника, мы можем, хотя бы приблизительно, реконструировать его замысел и восприятие его современников и, следовательно, понять произведение внутри его эпохи — такой способ обдумывает Пьер Менар, но отказывается от него. И другой взгляд — человека ХХ в. с его практическим и духовным опытом. Это именно то, что, по мнению рассказчика, пытался совершить Пьер Менар, успевший «переписать», то есть переосмыслить, лишь три главы «Дон Кихота»: в главе девятой первой части речь идет о сугубо литературных проблемах — соотношения между реальным автором, автором-рассказчиком и вымышленным повествователем; в главе тридцать восьмой первой части продолжается древний спор о превосходстве шпаги или пера, войны или культуры; в главе двадцать второй первой части Дон Кихот освобождает каторжников и высказывает при этом весьма современные мысли о справедливости, правосудии, которое не должно опираться только на признании осужденных, о могуществе человеческой воли, которой под силу победить любые испытания. Конечно, не менее актуально звучат и другие пассажи из «Дон Кихота». В 1938 году, в разгар гражданской войны в Испании, поэт А. Мачадо использовал цитату из рассуждений Дон Кихота в эпизоде со львами (часть вторая, глава семнадцатая), обратив ее в метафору героического и безнадежного сопротивления республиканской Испании фашистскому мятежу: «Чародеи вольны обрекать меня на неудачи, но сломить мое упорство и мужество они не властны» [2, c. 121].
Осовременивание классики совершается Борхесом очень часто, но, как правило, остается неосознанным читателем. Невероятное и непосильное предприятие П. Менара делает его наглядным. Французский критик М. Бланшо счел «Пьера Менара» метафорой художественного перевода. Видимо, подобное толкование носит слишком частный характер. Нам представляется, что подобное переосмысление происходит при анализе, при режиссерских и иных интерпретациях, да и просто при чтении. Это и есть, на наш взгляд, подтверждение предвосхищения науки искусством.
В рассказе-эссе «О культе книг», как и в некоторых других своих рассказах, Борхес как бы предвосхищает современную семиотическую теорию, в те годы, когда создавался сборник «Новые расследования» (1952), только формировавшуюся в узких кружках специалистов и отнюдь не обладавшую ее сегодняшним резонансом.
Пожалуй, наиболее многочисленную группу фантастических рассказов Борхеса составляют рассказы-предостережения. Английский ученый Дж. Фейен интересно рассуждает о предупреждении, содержащемся в истории гибели Эрика Леннрота из рассказа «Смерть и буссоль»: «Опасность, по-видимому, кроется в попытке ориентироваться на какой-нибудь избранной точке: не просто в поисках симметрии, а в любой попытке разума замкнуться в каких-то границах… При построении объяснений, способных предсказывать явления, модели иногда оказываются весьма полезными, но, как и любая система представлений, они могут заменить собой ту самую реальность, которой призваны служить: видение, закоснев, превращается в догму» [3, c. 163].
Сочиняя свои интеллектуальные метафоры, Борхес проявляет дерзость по отношению к устоявшимся и общепринятым понятиям и даже священным мифам и сакральным текстам западной цивилизации, в лоне которой он был воспитан. Чтение Евангелия, должное внушить любовь и смирение, может привести к неожиданному смертоносному результату, как, например, в рассказе «Евангелие от Марка». А герой рассказа «Три версии предательства Иуды» вообще оспорил Новый завет, предположив, что богочеловеком был не Иисус, а Иуда, и искупление состояло не в смерти на кресте, а гораздо более жестоких муках совести и бесконечном страдании в последнем круге ада (именно туда поместил презреннейших из грешников — Иуду и других предателей — Данте). Заключительные строки этого рассказа: «…он обогатил новыми чертами — зла и злосчастия» — приближают реципиента к пониманию критериев, которыми руководствовался Борхес, создавая свои романтические постулаты. Писатель подкрепляет вымыслы цитациями и библиографическими справками, где только при помощи специальных изысканий можно отделить подлинные имена и названия книг от вымышленных. Эффект таких повествовательных приемов не сводится к элементарному жизнеподобию. Борхес как бы разрушает средостение между реальной и воображаемой жизнью, заставляет читателя испытывать подчас головокружительное ощущение, что все может случиться, что в любой библиотеке, на любой книжной странице его ждут неслыханные новости. По-своему Борхес добивается эффекта двойничества; в его прозе причудливое фантастическое переплетается с повседневной реальностью. Идеи перетекания и превращения восходят, по-видимому, к философским повестям Вольтера «Задиг, или Судьба» и «Царевна вавилонская». Особенно ярко это проявляется в рассказе писателя «Вавилонская библиотека», в котором мотив превращения Вавилона становится не только моделью мироустройства, но и своеобразным культурным мифом. От исторического Вавилона у Борхеса не остается ничего, кроме нескольких географических названий и чисто внешних штрихов. Злоключения вольтеровского Задига — от мучений к блаженству, от плахи к трону, невозможность даже для самого дальновидного ума предусмотреть и предотвратить коловращение случая — все это обобщается в борхесовом образе вавилонской лотереи. У Вольтера спорят два толкования судьбы человека: Задиг склонен во всем винить дурно устроенное общество, позволяющее разгуляться человеческим порокам; ангел Иезрад говорит ему о мировом порядке, сковавшем в нерушимую цепь зло и добро. Борхес тоже приводит несколько возможных объяснений вавилонской лотереи, не присоединяясь в полной мере ни к просветительской иронии Задига, ни к вере в божественный промысел. Глупый произвол людей, который Задиг считает причиной своих бед, у Борхеса — лишь частная деталь миропорядка. Вавилонская лотерея онтологична, она выступает в роли судьбы, но не навязанной людям извне каким-то верховным существом, а отвечает скрытой в человеческой психике потребности в риске, опасности, игре случая. Таково отношение писателя к заимствованным мотивам — он вступает с ними в перекличку, в диалог, в игру. Подобный подход еще раз наводит нас на рассуждения о двойничестве, которое пронизывает творчество Борхеса и изнутри, и снаружи. Вероятно, это происходит потому, что, по мнению писателя, всякий значительный художественный мир неоднороден, его создает напряжение между двух полюсов, столкновение двух стихий. Эстетический закон, выведенный одним из героев Борхеса гласит: «Книга, в которой нет ее антикниги, считается незавершенной». Это утверждение подсказано, очевидно, самонаблюдением, рефлексией по поводу собственного творчества. Борхес отлично осознает присутствие, и даже, соперничество двух исходных начал во всем, что он пишет. Об этом, например, говорится в миниатюре «Борхес и я». Речь идет о внутреннем дуализме, о тяготении к различным и, порой, противоположным художественным задачам. Возможно, что это двойничество проявляется и в быту: во вкусах, пристрастиях, переменах настроения, что отражается в рассказах писателя. Но основа подобного раздвоения личности, на наш взгляд, творческая, а не психологическая. Впрочем, художественное двойничество Борхеса можно обозначить еще точнее: на одном полюсе — утонченный интеллектуализм, культурологическая фантазия, на другом — апология деяния, безрассудной решимости и отваги. Конечно, это противоречие не антагонистично, иначе оно бы парализовало творческую активность писателя. В миросозерцании Борхеса эти два начала, по нашему мнению, не враждебно противостоят, но дополняют друг друга. Тут нет резкой грани — писатель свободно и причудливо сочетает бытовой, исторический и «книжный» материал, создавая рассказы-симбиозы.
Рассказы Борхеса объединены тем, что направлены к познанию человека. «Я думаю, — говорит Борхес, — что люди вообще ошибаются, когда считают, что лишь повседневное представляет реальность, а все остальное ирреально. В широком смысле страсти, идеи, предположения столь же реальны, как факты повседневности, и более того — создают факты повседневности. Я уверен, что все философы мира влияют на повседневную жизнь» [2, с. 270].
Таково двойничество писателя: оно служит и внешней рамкой для рассказа и организует текст изнутри.
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Рубрики
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Статистика
Борхес и я
читая Борхеса, как будто входишь в круг посвященных. Это как обряд инициации
В последнюю ночь перед расстрелом хочется думать о Борхесе. Т.е. хочется, чтобы в ночь перед расстрелом хватило мужества думать о Борхесе. Думать, как Борхес. Потому что есть надежда, что в последний момент ты поймешь какой то главный смысл в этой жизни, какой-то символ поглотит тебя и спасет.
Почему Борхес не поднял знамя цвета истертых страниц рукописей новой религии? Эта религия смогла бы собрать больше сторонников, чем Ислам
Нет Бога, кроме Библиотеки, и Борхес пророк его.







Борхес и я
События – удел его, Борхеса. Я бреду по Буэнос-Айресу и останавливаюсь – уже почти машинально – взглянуть на арку подъезда и решетку ворот; о Борхесе я узнаю из почты и вижу его фамилию в списке преподавателей или в биографическом словаре. Я люблю песочные часы, географические карты, издания XVIII века, этимологические штудии, вкус кофе и прозу Стивенсона; он разделяет мои пристрастия, но с таким самодовольством, что это уже походит на роль. Не стоит сгущать краски: мы не враги – я живу, остаюсь в живых, чтобы Борхес мог сочинять свою литературу и доказывать ею мое существование. Охотно признаю, кое-какие страницы ему удались, но и эти страницы меня не спасут, ведь лучшим в них он не обязан ни себе, ни другим, а только языку и традиции. Так или иначе, я обречен исчезнуть, и, быть может, лишь какая-то частица меня уцелеет в нем. Мало-помалу я отдаю ему все, хоть и знаю его болезненную страсть к подтасовкам и преувеличениям. Спиноза утверждал, что сущее стремится пребыть собой, камень – вечно быть камнем, тигр – тигром. Мне суждено остаться Борхесом, а не мной (если я вообще есть), но я куда реже узнаю себя в его книгах, чем во многих других или в самозабвенных переборах гитары. Однажды я попытался освободиться от него и сменил мифологию окраин на игры со временем и пространством. Теперь и эти игры принадлежат Борхесу, а мне нужно придумывать что-то новое. И потому моя жизнь – бегство, и все для меня – утрата, и все достается забвенью или ему, другому.
Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.

И обычно я предпочитаю общаться с теми. кто меня понимает, чтобы не тратить время на подобные объяснения.
вы зря воспринимаете мои высказывания агрессивно
Исходное сообщение Edvb
я предпочитаю общаться с теми. кто меня понимает,

я его начинал студентом. понял очень мало.
сейчас вернулся
читаю совсем короткие вещи

Катя, успокойтесь, я не хотел вас обидеть. смейтесь на здоровье
Исходное сообщение M_faBrant
Ну, что пришлось искать. Сейчас читаю его рассказы. вечно ты придумаешь, чем занять народ.
какую ерунду ты пишешь
Борхес и я
События – удел его, Борхеса. Я бреду по Буэнос-Айресу и останавливаюсь – уже почти машинально – взглянуть на арку подъезда и решетку ворот; о Борхесе я узнаю из почты и вижу его фамилию в списке преподавателей или в биографическом словаре. Я люблю песочные часы, географические карты, издания XVIII века, этимологические штудии, вкус кофе и прозу Стивенсона; он разделяет мои пристрастия, но с таким самодовольством, что это уже походит на роль. Не стоит сгущать краски: мы не враги – я живу, остаюсь в живых, чтобы Борхес мог сочинять свою литературу и доказывать ею мое существование. Охотно признаю, кое-какие страницы ему удались, но и эти страницы меня не спасут, ведь лучшим в них он не обязан ни себе, ни другим, а только языку и традиции. Так или иначе, я обречен исчезнуть, и, быть может, лишь какая-то частица меня уцелеет в нем. Мало-помалу я отдаю ему все, хоть и знаю его болезненную страсть к подтасовкам и преувеличениям. Спиноза утверждал, что сущее стремится пребыть собой, камень – вечно быть камнем, тигр – тигром. Мне суждено остаться Борхесом, а не мной (если я вообще есть), но я куда реже узнаю себя в его книгах, чем во многих других или в самозабвенных переборах гитары. Однажды я попытался освободиться от него и сменил мифологию окраин на игры со временем и пространством. Теперь и эти игры принадлежат Борхесу, а мне нужно придумывать что-то новое. И потому моя жизнь – бегство, и все для меня – утрата, и все достается забвенью или ему, другому.
Я не знаю, кто из нас двоих пишет эту страницу.
Вот этот текст самый лучший в посте и комментариях.
Однажды ты уже писал пост с таким названием и даже ссылочки прикладывал. Люблю твои ссылки не меньше чем тебя.
Как понять Хорхе Луиса Борхеса. Он перевернул смыслы литературы и реальности, предсказал интернет, сделал чтение культом
Быть одновременно и легендой, и изгоем. Так бывает? Так бывает. Это история о человеке, который:
● Прославился в стране, с которой прожил в отношениях взаимной прохлады.
● Доказал, что читать других и писать самому − это одинаково значительно.
● Показывал: вымышленные миры не менее реальны, чем тот, в котором живем мы.
● Обожал природу игр, но не любил главную игру − за правила и зловещую природу фанатизма.
● Не писал рассказов длиннее 10-15 страниц, не получил нобелевку − но стал классиком и мировой звездой литературы.
Это история о человеке, чьи произведения стоят на полках любого книжного. Но который для многих до сих пор непонятен.
Борхес – великий читатель. Тексты − сила, важнее мнения других и жизни вокруг
Лучшая и самая понятная характеристика для описания Борхеса – книжный червь. Если вы представите самого стереотипного читателя-энтузиаста, то не ошибетесь – Борхес такой. Пыль древних изданий была для него приятнее морского воздуха приключений, а целый день за книгой – лучшим отдыхом от писательства. Противоположность авторам-бунтарям вроде Джека Лондона или Хэмингуэя – писатель-буквоед, для которого воображение и литературные фантазии других всегда значили больше, чем мир за окном.
Страсть к чтению передалась Борхесу от отца-юриста, библиотека которого с четырех лет заменила ему игровую комнату, и от бабушки Фанни по отцовской линии – англичанки, вышедшей замуж за аргентинского полковника Франциско Борхеса в середине XIX века. Старушка Фанни стала для Борхеса главным учителем: его одинаково завораживали рассказы о ее безумном прошлом и знакомство с английскими классиками, которых она читала вслух.
Пару десятилетий спустя на лекции Борхеса в небольших городах приходило так мало народу, что организаторы специально зазывали случайных прохожих. Неудивительно: он говорил не о популярных латиноамериканских авторах, а о Стивенсоне, Честертоне и Уайльде.
Общество не видело Борхеса национальным писателем, потому что он не прославлял ни историю Аргентины, ни менталитет ее жителей. Вместо этого − ирландские офицеры, древние египтяне, вавилоняне и сектанты из древних безымянных стран. Сам Борхес мало волновался, что критики-соотечественники считают его чуть ли не предателем: литература была для него истиной, смыслом жизни и религией. А еще бесчисленной совокупностью реальных и вымышленных миров.
Ограничиваться патриотичными заметками о сиюминутных проблемах нет смысла. Борхес ценил любое событие в истории человечества, даже если оно произошло тысячу лет назад за тысячу километров от него.
В библиотеке или за пишущей машинкой он был мальчиком в волшебном магазине игрушек, где можно не только выбрать самую крутую и дорогую, но и создать свою, даже совсем невообразимую. Борхес ни за что не согласился бы мыслить по-другому – его не соблазняли ни карьерные перспективы, ни больший заработок.
Другой аргентинский писатель Рикардо Пилья рассказывал: однажды Русский культурный центр позвал Борхеса для лекции про Достоевского. Он согласился. Но когда пришел, вдруг заявил: Достоевского любит не очень, поэтому сейчас будет лекция про Данте Алигьери.
«До того как я написал первую строчку, уже понимал в каком-то мистическом и совершенно определенном смысле, что литература – моя судьба, – говорил Борхес. – Однако сначала я не предполагал, что мне уготована судьба не только читателя, но и писателя. Я не думаю, что одно может быть важнее другого».
Своим творчеством он разрушил стереотип, что автор должен беспокоиться о мнении других – в том числе читателей. Любое произведение можно проинтерпретировать тысячей разных способов: то есть писатель и читатель обладают в этом деле абсолютной свободой. «Абсурдно предполагать, что писатель станет работать лучше, если будет думать о тех, кто прочитает его произведения».
Так оценил влияние Борхеса современный аргентинский писатель Карлос Гамерро:
«Возможно, он не величайший писатель XX века, но точно величайший читатель. Он дал новую жизнь западной и восточной традиции благодаря чтению и переосмыслению классики – от Гомера и англосаксов до наших дней. Он оживил их в текстах, которые читаются так, будто написаны вчера. Борхес не был мистиком, но ни один мистик не умел разглядеть мир в крупинке песка так, как Борхес».
Важнейшие образы для понимания Борхеса – библиотека и лабиринт. Еще − целая реальность, которая умещается в одной точке пространства
Всю жизнь Борхеса восхищали книги и головоломки.
Первые привлекали безграничностью смыслов. Например, за рассказ «Вавилонская библиотека» его иногда называют пророком интернета. Там он предложил образ бесконечной библиотеки, заполненной всеми возможными текстовыми вариациями. Как полная бессмыслица, так и признанный шедевр. Одна и та же книга встретится в миллионе вариаций – с опечаткой в одном слове, без какого-то предложения или абзаца. Некоторые сходят из-за библиотеки с ума, другие объявляют крестовый поход против книг и сжигают их. Этим образом Борхес одновременно показал силу литературы и ограниченность человека, который не исчерпает все богатство смыслов, даже если будет читать по сотне книг в день всю жизнь.
Борхес обожал списки и периодизации, хотя составлял их по-своему. Иногда он посвящал целые рассказы библиографии вымышленных писателей, произведения которых читатели затем спрашивали в книжных.
В рассказе «Пьер Менар, автор «Дон Кихота» один из таких придуманных писателей хочет наизусть воспроизвести культовый роман Сервантеса. Но не просто переписать – создать такой текст от своего имени, сохранив свое Я. Как если бы современный писатель стилизовал сюжет произведения под Испанию XVII века.
Главный герой «Фунес, чудо памяти» после несчастного случая обретает сверхспособность – помнит до мельчайших подробностей любое ощущение, каждую мелочь и чувство, которые когда-либо переживал.
Борхес воспевает бесконечность литературы и нашей реальности. При желании мы могли бы потратить всю жизнь на реконструкцию событий и деталей одного дня или одной книги. Он предполагал, что в одной точке пространства сокрыта целая вселенная, а стихотворение из одной строки потрясет не слабее религиозного экстаза.
Когда в рассказе «Зеркало и маска» поэт читает такое произведение королю, человеческий разум оказывается не в состоянии вынести богатство смыслов: один из персонажей убивает себя, другой отказывается от власти и становится нищим. Мы не примем и не уместим все то, что мир нам предлагает. Неудивительно, что 19-летний Фунес, который ничего не забывает, кажется «бронзовым изваянием, более древним, чем Египет, пророки и пирамиды».
Все, что мы видим, в любой момент рассматривается и понимается под другим углом. Борхес, несмотря на страсть к истории и классике, легко считается постмодернистом за то, как каждым словом он протестует против однозначности: в его произведениях обычные предметы вдруг меняют облик, а каждое событие подразумевает как само себя, так и свое отрицание.
«Книга песка» – это книга без конца и начала, содержание которой меняется каждый раз, когда ее открываешь. В «Синих тиграх» проклятием становится горстка камней, которая непостижимым образом становится чуть больше каждый раз, когда их бросаешь. Такое жутко даже представить – какая-то обычная, простая, скучная и повседневная вещь вдруг предстает в совсем другом свете.
Самый известный рассказ Борхеса на тему множащихся и меняющихся смыслов – «Сад расходящихся тропок». Формально это детектив о немецком шпионе времен Первой мировой, который пытается вовремя передать сообщение о местонахождении британских войск. Но главный в истории − вымышленный роман, который предвосхитил интерактивные видеоигры: в нем нет единого сюжета, а все линии переплетаются между собой в зависимости от разных решений героя.
В одной главе персонаж умирает, в другой – снова жив. Мы восхищались Detroit: Become Human в 2018-м, но концепция историй с множеством концов появилась еще в 1941-м. Ее создал игравший с реальностью Борхес. «Каждый писатель создает собственных предшественников, – писал он в эссе про Кафку. – Его работа преобразует наше понимание прошлого так же, как и будущего».
«Борхес создал новый литературный континент между Северной и Южной Америками, между Европой и Америкой, между старыми мирами и современностью, – объяснила значимость аргентинца переводившая его на английский Сьюзан Джилл Левин. – Он создавал самые оригинальные произведения эпохи и одновременно показывал, что под луной нет ничего нового. Создание – это воссоздание, мы все – один противоречивый разум, объединенный друг с другом сквозь время и пространство. Люди – это не только авторы вымысла. Они и сами являются вымыслом».
«Футбол популярен, потому что глупость популярна». Творчество Борхеса – игра, но со спортом у него все сложно
Спорт – тоже игра, но с правилами. Но Борхес думал: подобные ограничения лишь делают игру примитивной и сводят к последовательности одинаковых действий, лишая загадочности. Еще футбол не вдохновлял Борхеса из-за насилия, распространенного среди фанатов – каждый матч низводится до социальных конфликтов, которые невозможно отделить от самой игры. Такое отношение не добавило Борхесу популярности среди аргентинцев, которые готовы уже век каждые выходные драться друг с другом ради «Бока Хуниорс» или «Ривер Плейт».
Некоторые цитаты Борхеса насчет футбола вошли в историю – в основном их используют, чтобы подчеркнуть высокомерие и отстраненность от повседневной жизни с ее простыми проблемами и радостями. Например, такое: «Футбол популярен, потому что глупость популярна».
Еще он называл соккер величайшим преступлением англичан – нации, которая повлияла на него даже больше, чем собственная. Современники рассказывали, как он специально назначил одну из лекций на матч аргентинцев на ЧМ-1978.
Борхес считал футбол неэстетичным, но еще больше его раздражала слепота фанатов. Она напоминала ему фанатичную поддержку политических лидеров XX века, которые втягивали страны в войны и устанавливали тоталитарные режимы. Связь футбола с национализмом мешала Борхесу: «В соккере сильна идея власти, превосходства, которая кажется мне ужасной». На его веку Аргентину раздирали фашисты, перонисты и антисемиты – неудивительно, что футбол казался ему лишь дополнительным инструментом для насаждения идеологии. Борхеса настолько раздражало смешение спорта и политики, что для него было проще отказаться от футбола вообще, чем пытаться понять и полюбить его.
Всем творчеством Борхес показывал, что в мире нет ничего неизменного, поэтому вся его сущность противилась любой догматической или религиозной системе ценностей. Футбол же объединял в себе обе сферы: для ультрас он был одновременно и способом подчеркнуть политический консерватизм, и религией. «Национализм подразумевает только конкретные утверждения, а любое сомнение или отрицание считаются формой глупости», – рассуждал он.
Кульминацией позиции Борхеса по отношению к футболу как политическому инструменту стал рассказ «Esse est percipi» (философский принцип «существовать – значит быть воспринятым»), написанный в соавторстве с его приятелем Адольфо Биой Касаресом. В вымышленной вселенной больше нет спорта – его заменили рассказы о спорте: газетные заметки, репортажи и новости. Гражданам сообщают результаты матчей, которых никогда не было, и описывают события, которые полностью выдумываются. По мнению Борхеса, футбол влечет такой фанатизм, что реальные ценности отходят на второй план и уступают место идеологическим:
«Стадионы давно заброшены и разваливаются на кусочки. Теперь все – телевизионная и радиопостановка. Разве фальшивые эмоции комментаторов не заставляли вас задуматься, что все подстроено? Последний футбольный матч в Буэнос-Айресе состоялся 24 июня 1937 года. С того самого момента футбол, как и все остальные виды спорта, превратился в представление драматического жанра, которое исполнял один человек в будке или несколько актеров в форме перед камерами».
Герои Борхеса, как и футбольные фанаты, часто мечтают стать частью чего-то большего из лучших побуждений: присоединяются к нацистскому режиму или вступают в маленькую организацию, которая стремительно превращается во властную бюрократическую структуру с множеством ответвлений.
Поэтому еще раз важное: Борхес не столько ненавидел сам футбол, сколько опасался его фанатичной силы. «Самое важное, что мы как один почувствовали: наш план, над которым каждый не раз посмеивался, неопровержимо и потаенно существует – это весь мир и мы в нем». Критика национального достояния стала очередной помехой для Борхеса на пути к всенародной славе, зато он по-прежнему не изменял себе.
Борхес стал звездой только под конец жизни. Он не получил Нобелевскую премию и не считался классиком
Борхес создал главные произведения с конца 1930-х (в 1938-м умер его отец) до 1951-го. После – начал терять зрение. Тогда же – благодаря нескольким переводам на французский – перед ним впервые забрезжила международная известность. Но полноценное признание настало только в старости – в Аргентине его не любили за открытое недовольство националистической политикой, а за границей мало кто вообще слышал про чудака из-за океана.
В 1961-м Борхес разделил с ирландским драматургом Сэмюэлом Беккетом престижную награду International Prize, прочитал курс лекций в университетах США и наконец стал мировой звездой. По иронии, примерно тогда же почти ослепший Борхес назначен директором Национальной библиотеки Аргентины.
Но главный приз литературы – Нобелевскую премию – он так и не получил. По одной версии, помешала политика: в начале 1970-х старик Борхес принял Орден Бернардо О’Хоггинса из рук чилийского диктатора Пиночета и похвалил того за борьбу против коммунистов. Академики не пошли против иммигрировавших в Европу латиноамериканских интеллектуалов и не запятнали нобелевку косвенной связью с военной хунтой через Борхеса.
Другая версия − Борхес просто не вписывался в формат награды. Он не создал за всю жизнь ни одного романа, и у него не было главного произведения, которое подводило бы итог всему творчеству.
Известно, например, что Толкин тоже не взял Нобелевскую премию, потому что его работы не подходили под определение «высокосортной прозы». В общем, премия подразумевала определенный формат и в плане идеологии, и в плане структуры – как современный «Оскар».
Борхес не стремился подстроиться под мейнстрим и был далек от пафоса послевоенной социальной прозы. Он обожал вестерны, а философские соображения об устройстве мира часто маскировал под детективы, приключенческие истории и прочий pulp fiction, в котором судьбы европейской цивилизации не обсуждались напрямую. Крупная и тяжеловесная проза не подходила Борхесу по стилю: он рисовал образы, изображал бесконечность на нескольких страницах, а не растягивал отдельные эпизоды на целые тома.
«Я никогда не думал написать роман. Если бы я начал, то понял бы, что в нем нет смысла. Возможно, это отговорка, которую я выдумал, чтобы оправдать свою лень. Главное преимущество короткой истории я вижу в том, что ее можно прочитать за один раз. В длинном произведении невозможно избежать провисаний, которые обеспечивают связь между разными фрагментами. В короткой истории все имеет значение, в ней все может быть необходимо».
Опередил время – это клише, но в случае с миром Борхеса – миром лабиринтов, загадок, книг и альтернативных реальностей – параллели с эпохой интернета очевидны и неизбежны. Он умер в 1986-м – через два года после изобретения тетриса и задолго до появления масштабных видеоигр, где каждое решение персонажа влияет на конец, а мир перестраивается по ходу геймплея.
В 2014-м инди-разработчик Роберт Янг выпустил Intimate, Infinite по мотивам «Сада расходящихся тропок», но вклад Борхеса не ограничивается одной игрой. На самом деле он почти полностью предсказал современный тип мышления – с нашей уверенностью в том, что любая необходимая информация содержится в одном месте. Плюрализм и сложное устройство мира – популярная тема у современных социологов, хотя все самое важное уже сказали – написали – до них.
Борхес оставил нам посыл: реальность − чертовски сложная штука, а упрощать ее – предавать себя, идти на сделку с совестью, поддаваться стадному чувству. Гораздо лучше умереть непонятым другими, но понять мир вокруг себя, чем обзавестись миллионами почитателей и остаться идиотом.