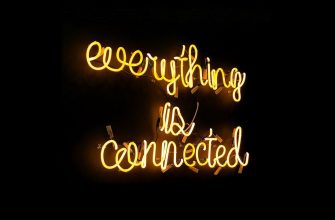Собаки в русской литературе
Равноправные герои
«Славный народ собаки. »
Антон Чехов

А Лиска живет себе до сих пор в собачьем приюте. Живется ей хорошо, сыто до отвалу, как и сотням других собак. Их любят, холят, берегут, ласкают. » Да еще, может быть, переживает своего хозяина, повесившегося от потери собачьего друга, купринский Пиратка из одноименного рассказа.
Меняются не только породы, но и занятия героев. И если сначала единственным описываемым занятием собаки является сторожевая служба, то затем ее сменяет охота, и лишь во второй половине девятнадцатого века появляются собачьи «вольные художники» и «люмпены», ибо авторов интересует уже не столько род их занятий, сколько внутренний мир.
Вошедши во двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полово-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих. Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди них совершенно как отец семейства. «
Конечно, в «Записках охотника» эти попытки еще очень робки, почти незаметны для обыкновенного читателя, но они уже есть. Принужденно улыбающаяся собака в «Хоре и Калиныче», мимолетные разговоры с псом в «Бежином луге», наконец, малоизвестный «Пэгаз» и так и не напечатанная автором при жизни, но с восторгом читаемая и принимаемая по салонам «Собака». Правда, последняя скорее символична, чем психологична.
И молодой Толстой, будучи, как никакой другой русский писатель, на физическом уровне открытым живой природе, не мог удержаться и тоже попытался запечатлеть уже носившуюся в воздухе тенденцию в рассказе «Булька. Рассказ офицера». Да, пожалуй, и Некрасов, тоже проникновенный охотник, попробовал подать собаку как существо вполне самостоятельное; к сожалению, разбросанные по стихам его зарисовки слишком незначительны и заметны только пристрастному читателю-собачнику или специалисту-литературоведу.
Почти до конца XIX века сохранялась и остаточная тенденция, идущая из века восемнадцатого: совершенно условная подача собаки как повода для движения сюжета. Такова, например, искрометная пьеса «Фантазия» Козьмы Пруткова, где все действие вертится вокруг пропавшей моськи. Также осталась привычка давать собаку элементарным обозначением определенного человеческого качества; это особенно заметно в русских эпиграммах.
«Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далекой, нежно светившейся, страшной глади. С замиранием сердца заметил он в углу черную шевелившуюся точку и едва узнал, вернее угадал, в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, веселую Жучку. » История с риском для жизни спасения мальчиком собаки из гнилого колодца есть на самом деле классическая инициация героя (недаром после спасения мальчик заболевает с потерей сознания, то есть «умирает», переходит в иной, новый мир взрослых).
Постепенно традиция охватывает все больший круг персонажей, и к началу века двадцатого порой уже трудно отличить, о ком написано то или иное произведение. Человек и собака в русской литературе начинают существовать на равных, особенно у писателей психологического склада. Так, кто герой бунинских «Снов Чанга»? Спившийся капитан или его не менее спившийся пес, сохранивший, однако, гораздо более человеческое и тонкое видение мира?
Таким образом, ко времени русского Серебряного века образ собаки, сделав круг, возвратился к своему началу и снова стал знаком и символом, не теряя, тем не менее, уже завоеванных позиций характеристики героя и самостоятельного персонажа.
Чехов, как никто другой, подхватил и развил еще одну русскую особенность в описании собак, идущую, пожалуй, от Гоголя: особенно расположены к ним герои, находящиеся в подпитии. И чем сильнее подпитие, тем сильнее льнут они к братьям меньшим и тем яростнее обвиняют человеческий род в грубости, глупости и полном непонимании мира. Ни к одному живому существу или неживому предмету не обращаются русские герои так часто, как к собаке, видя в ней свое нелгущее зеркало.
Но, конечно, самым удивительным мастером, сумевшим буквально превратиться в собаку-персонаж, был Куприн. «Сапсан» и «Собачье счастье» читаются как энциклопедия собачьих ощущений и взглядов, если будет позволено так выразиться. А точность описаний! «Тогда Джек решил ориентироваться по запаху. Он. старался уловить в воздухе знакомый запах Аннушкиного платья, запах грязного кухонного стола и серого мыла.
Но повествование от лица собаки неизбежно повлекло за собой и произведения ad absurdum, как, например, читаемый до сих пор «Дневник фокстерьера Микки» Саши Черного, где собака выступает с человеческой ментальностью, имея от своей породы лишь обличье и возможность говорить нелицеприятные вещи о людях как бы в шутку.
С другой стороны, «литературная» собака уже настолько плотно вошла в жизнь и быт, что она оказывается даже в таком редком для начала века положении, как полет на аэроплане.
«Пришли весною. Воздушный причал
Был бессолнечно-сер.
Хозяин надел шлем и сказал:
«Сядьте и вы, сэр!»
Джек вздохнул, почесал бок,
Сел, облизнулся, и в путь!
Взглянул вниз и больше не смог,-
Такая напала жуть.
«Земля бежит от меня так,
Будто я ее съем.
Люди не крупнее собак,
А собак не видно совсем».
Хозяин смеется. Джек смущен
И думает: «Я свинья:
Если это может он,
Значит, могу и я».
После чего спокойнее стал
И, повизгивая слегка,
Только судорожно зевал
И лаял на облака.
Концовка же этого известного стихотворения* уже окончательно уравнивает собаку и человека даже в смерти: «И люди сказали: / Был пес, а умер, как человек».
Революция перечеркнула все достижения русской литературы в отношении собак (остался, пожалуй, один Михаил Пришвин), многое потом пришлось восстанавливать заново. И, надо сказать, литература советская добилась в этом отношении многого, внеся ранее не существовавшие мотивы. Но об этом в следующем номере.
Образ собаки в русской литературе
Мировая литература как таковая богата упоминаниями о собаках, и если обратить внимание на русскую литературу, в ней мы найдем множество произведений об этих животных, множество упоминаний о них. Чехов, Куприн, Достоевский, Есенин, Тургенев и др., бывало, сосредотачивались на образе собак в своих произведениях. Так, само собой, хочется начать с «Муму» и «Каштанки», а также разобрать второстепенные, но сильные роли собак у Достоевского и других писателей.
Чаще всего собаки в произведениях русских писателей обречены на трагическую судьбу, какая часто касается и человеческих героев в большинстве произведений. Вместе с этим существует различие между изображением этих питомцев у нас и на западе: если особенностью собак, изображенных Джеком Лондоном или Сетон-Томпсоном, можно назвать активность, то в нашей литературе собака редко показана в самостоятельном активном действии, чаще всего она жертва какого-либо действия, выражающая трагизм бытия. Но есть и исключения: например, «Собачье счастье» Куприна, а также некоторые другие произведения.
Описание собак, их занятий, особенности повествования о них со временем меняются. Если раньше порода не упоминалась вовсе, то в 19 веке персонажи становятся более разнообразными, описывается порода, к сторожевой службе добавляется охота и даже «внутренний мир», который писатели начинают описывать уже позже. Особенности исторической эпохи и литературных течений при желании также можно отследить по изменению образов собак. Так Гоголь дает емкое описание щенка в «Мертвых душах», а Толстой в «Анне Карениной» через собак рассказывает о времяпрепровождении и чертах некоторых героев. Данная тенденция со временем меняется: через образ собаки показывается не просто досуг или особенности героя, но его действие, его поступки, его судьба. Здесь можно упомянуть как раз «Муму» Тургенева. И с этого момента начинается попытка проникнуть во внутренний мир собаки, увидеть ее глазами жизнь. И хоть Достоевский не сосредотачивается в «Братьях Карамазовых» на видении собакой окружающего, но через происшествие с собакой и Колей Красоткиным происходит, можно сказать, взросление мальчика, наступает показательный для него момент. Так Достоевский поддерживает традицию в литературе, давая героям проявить себя через присутствие животных.
К началу двадцатого века человек и собака в русской литературе начинают существовать фактически на равных. А ко времени Серебряного века образ собаки возвратился к своему началу: стал символом и знаком, не потеряв при этом достигнутого, продолжая быть теперь уже самостоятельным персонажем.
Читайте также:
Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
От Милушки до Чуни: русские литературные собачки
Образцы верной дружбы и подлого лакейства, демонологические персонажи и олицетворения болезни, поборники нравственности и свидетели (а то и участники) любовных утех: «Полка» рассказывает о том, как маленькие собачки послужили русской литературе.
С самого начала существования «Полки» у редакции было условное обозначение абсолютно идиотского критерия классификации литературы: «маленькие собачки». Например: «А что у нас будет в этом списке? Все книги про маленьких собачек?» Или: «Ну при желании можно сделать и материал о книгах, где есть маленькие собачки». Так вот: мы не можем больше сдерживаться. Мы сделали этот материал. Просим любить и жаловать: маленькие собачки в русской литературе.
Разумеется, этот список не исчерпывающий, и мы не сомневаемся, что наши читатели вспомнят гораздо больше собачек, чем мы, особенно в детской литературе, к этим существам благорасположенной. В определении размера собачек мы руководствовались скорее здравым смыслом, чем кинологическими стандартами. Для простоты (и чтобы не остаться без нескольких прекрасных произведений) к маленьким собачкам приравнены щенки. Совсем уж мимолётных собачек (например, чёрную моську на руках у Дуни в «Станционном смотрителе») мы не рассматривали. Переводных собачек (например, Плиха и Плюха), пусть и пригревшихся в русской литературе, мы с сожалением выставили за дверь. Одна порода вызвала у нас затруднения: это пудель, часто встречающийся у русских писателей (нам попалась даже филологическая статья об образе пуделя в творчестве Державина). С одной стороны, бывают маленькие пудели; с другой, какой-нибудь Артемон из «Золотого ключика» — явно крупная собака. Так что пуделей мы брали в расчёт, только когда из текста явствовал их размер.
Милушка
Увы! Сей день с колен Милушка
И с трона Людвиг пал. — Смотри,
О смертный! Не все ль судьб игрушка —
Собачки и цари?
Горностайко
Здесь пёсик беленький лежит,
Который Горностайком звался.
Он был тем мил и знаменит,
Что за хозяина вступался
И угождал не низкою какой,
А твёрдой львиною душой;
Ворчал, визжал — но так забавно,
Что и сердяся пел сопрано.
Филолог Яков Грот, издавший девятитомное собрание сочинений Державина, так комментировал это стихотворение: «Эту собачку звали сокращённо Тайкой; она была хорошо известна всем посещавшим Державина, которые часто заставали его в халате и видели у него эту любимицу за пазухой».
Жужу
В отличие от Горностайка, «Жужу, кудрявая болонка» из басни Крылова «Две собаки» — образец расчётливого лакейства. На вопрос дворового пса Барбоса, терпящего за верную службу одни лишения, «чем служит» людям его бывший друг Жужутка, Жужу даёт ответ: «На задних лапках я хожу». Мораль: «Как счастье многие находят / Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» Ради аллегории (один благодаря угодничеству пробивается в люди, другой, верно служа, остаётся с носом) Крылов идёт против кинологического здравого смысла. «Ну, что, Жужутка, как живёшь, / С тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? / Ведь, помнишь: на дворе мы часто голодали». Кто ж это станет держать болонку на дворе?
Моська
Крыловская Моська — маленькая собачка, которую мы все знаем с детства, и неплохой специалист по пиару:
Вот то-то мне и духу придаёт,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!»
Моськами во времена Крылова называли мопсов, которые вошли в моду в России в XVIII веке.
Фиделька
В «Модной жене», юмористической сказке классициста Ивана Дмитриева, жена, разумеется, неверна. Не откажем себе в удовольствии процитировать:
Диван для городской вострушки,
Когда на нём она сам-друг,
Опаснее, чем для пастушки
Средь рощицы зелёный луг,
И эта выдумка диванов,
По чести, месть нам от султанов!
От разоблачения ветреницу, уединившуюся с любовником на диване, спасает собачка Фиделька, вовремя поднявшая лай. Как выкрутилась остроумная жена, предоставляем узнать читателю, а про собачку заметим, что fidelis по-латински как раз значит «верный». Спустя 34 года тот же мотив переиначит Пушкин в «Графе Нулине» (см. ниже).
Прелестный шпиц
Человеческое воплощение «ходьбы на задних лапках» — Молчалин из «Горя от ума», и чтобы подольститься к великосветской старухе Хлёстовой, он выбирает соответствующий предмет для комплимента: «Ваш шпиц — прелестный шпиц, не более напёрстка! / Я гладил всё его; как шёлковая шёрстка!» Хлёстова воспринимает своего шпица наравне с «арапкой-девкой», которую тоже взяла с собой «от скуки»: «Вели их накормить ужо, дружочек мой, / От ужина сошли подачку». Одно из первых упоминаний шпицев в русской литературе: карликовые померанские шпицы были популярны у европейской знати, в России шпица держал, например, адмирал Шишков.
Амика
О камены, камены всесильные!
Вы внушите мне песню унылую;
Вы взгляните: в слезах Аматузия,
Горько плачут амуры и грации.
Нет игривой собачки у Лидии,
Нет Амики, прекрасной и ласковой.
И Дельвиг перечисляет многочисленные достоинства Амики, ушедшей «в те сады, где воробушек Лесбии / На руках у Катулла чиликает». Дамой, заказавшей Дельвигу эпитафию, была Софья Дмитриевна Пономарёва, хозяйка литературного салона на Фурштатской улице, где сложился дружеский кружок «Сословие друзей просвещения». В него входили и Дельвиг, и Востоков, и многие другие блестящие литераторы, в том числе Баратынский. Собаку звали на самом деле не Амика («подруга» по-латински), а Мальвина; в изначальном автографе Дельвига значилось настоящее имя. Три года спустя он, увы, напишет утончённую эпитафию и Мальвининой хозяйке. «Комнатная собачка, с лаем кидавшаяся на гостей, была памятна всем посетителям дома, но её нехитрая жизнь вдруг неожиданно облеклась в одежды поэтические и мифологические; она заняла место подле псов Дианы и заливалась лаем на Марса и Зевса. То, что для похвал её шелковистой шерсти и привязанности к хозяйке был мобилизован весь реквизит поэзии века Августа, — было забавно, как забавны были и античные эвфемизмы», — писал литературовед Вадим Вацуро. Мальвина и ещё одна собака Пономарёвой, Гектор, упомянуты в романе Юрия Тынянова «Кюхля» — о Вильгельме Кюхельбекере, влюблённом, как и многие другие, в Софью Пономарёву.
Шпиц косматый
«Граф Нулин», по полушутливому признанию Пушкина, вырос из вопроса: «Что, если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощёчину Тарквинию? быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принуждён был отступить?» Но смелость Натальи Павловны, отвесившей пощёчину ночному визитёру Нулину, была не единственной счастливой помехой:
Казалось бы, перед нами перевёрнутая ситуация из «Модной жены» Дмитриева, но Наталья Павловна и впрямь была неверна своему супругу — только счастливым соперником оказался не Нулин. Кстати, в усадьбе были и другие собаки: охотничьи борзые и как минимум одна дворовая.
Фидель и Меджи
Собачки, чью переписку перехватывает герой «Записок сумасшедшего» Поприщин, в характерной перспективе обсуждают свой собственный быт («Ах, ma chere, я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия в больших обглоданных костях, которые жрёт на кухне наш Полкан»), свои амурные дела («Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора») и жизнь своих хозяев:
За столом он был так весел, как я ещё никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал: «А посмотри, Меджи, что это такое». Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала её, но решительно не нашла никакого аромата; наконец потихоньку лизнула: солёное немного.
Поприщин, мечтавший вычитать какие-нибудь интимные подробности о дочери своего начальника, негодует: «Тотчас видно, что не человек писал. Начнёт так, как следует, а кончит собачиною». Впрочем, кое-что важное для себя он всё же узнал: красавица торопилась под венец с камер-юнкером, а сам Поприщин оказался посмешищем не только для неё, но даже для её собаки. Переписка собачек, воображаемая или (чем Гоголь не шутит) реальная, окончательно сводит Поприщина с ума.
Борзые щенки
«Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело», — заявляет в первом действии «Ревизора» судья Ляпкин-Тяпкин. Самих щенков в пьесе нет, но это не помешало им превратиться в мем.
Собачка-болезнь
В «Записках охотника» много собак, но в основном крупные. Зато есть собачка, никак с охотой не связанная: персонификация болезни из сновидения крестьянки Лукерьи. Некогда «первая красавица во всей нашей дворне», а теперь несчастная, поражённая непонятной хворью, иссохшая женщина, которой подходит прозвище «живые мощи» (так, собственно, и называется рассказ), Лукерья рассказывает изумлённому барину Петру Петровичу о своём сне. «Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — всё укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста». Во сне к Лукерье является сам Христос, забирающий её в Царствие Небесное:
И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги. но тут мы взвились! Он впереди. Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в Царстве Небесном ей уже места не будет.
Перед смертью Лукерья услышит колокольный звон с неба — будто во исполнение своих снов.
Муму
Очередная итерация мотива «собака — свидетель адюльтера». Рассказ Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью» — запутанный водевиль, в котором муж не один, а два — и под кроватью тоже прячутся двое. Потерявший голову главный герой рассказа (попавший под кровать по ошибке), круто обходится с болонкой, которой вздумалось некстати залаять:
— Изверг! что вы делаете? — прошептал молодой человек. — Вы губите нас обоих! Зачем вы схватили её? Боже мой, он её душит! Не душите, пустите её! Изверг! Но вы не знаете после этого сердца женщины! Она нас выдаст обоих, если вы задушите собачку.
Но Иван Андреевич уже ничего не слыхал. Ему удалось поймать собачку, и в припадке самохранения он сдавил ей горло. Собачонка взвизгнула и испустила дух.
— Мы пропали! — прошептал молодой человек.
— Амишка! Амишка! — закричала дама. — Боже мой, что они делают с моим Амишкой? Амишка! Амишка! ici! О изверги! варвары! Боже, мне дурно!
Юноша, которого Иван Андреевич попрекал молодостью, был совершенно прав: любовь к собаке пересилила в даме и любовь, и страх разоблачения. Кончится всё, впрочем, хорошо, а удушенную собачку ещё ждёт выход на бис.
Болонка, выброшенная из окна
Ещё одна убитая в прозе Достоевского болонка — не на совести писателя. В начале «Идиота» генерал Иволгин рассказывает гостям, как выбросил из окна болонку попутчицы в поезде:
Не говоря ни слова, я с необыкновенною вежливостью, с совершеннейшею вежливостью, с утончённейшею, так сказать, вежливостью, двумя пальцами приближаюсь к болонке, беру деликатно за шиворот и шварк её за окошко вслед за сигаркой! Только взвизгнула! Вагон продолжает лететь.
И тут же Достоевский великолепным саморазоблачительным жестом сообщает, откуда он (а заодно и генерал Иволгин) взял эту историю:
— Но позвольте, как же это? — спросила вдруг Настасья Филипповна. — Пять или шесть дней назад я читала в Indépendance — a я постоянно читаю Indépendance — точно такую же историю! Но решительно точно такую же! Это случилось на одной из прирейнских железных дорог, в вагоне, с одним французом и англичанкой: точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута в окно болонка, наконец, точно так же и кончилось, как у вас. Даже платье светло-голубое!
Генерал покраснел ужасно…
— Уверяю же вас, — пробормотал генерал, — что и со мной точно то же случилось…
Сцена хорошо характеризует Иволгина, глупого враля и пьяницу.
Жучка
Наверное, самая запоминающаяся сцена в «Детстве Тёмы» Николая Гарина-Михайловского — спасение собаки Жучки, которую «какой-то ирод» бросил в колодец. Некоторые читатели признаются, что эта сцена для них — одно из страшных воспоминаний детства. «Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далёкой, нежно светившейся, страшной глади. Он точно почувствовал на себе её прикосновение и содрогнулся за свою Жучку».
Фантазия
В пародийной комедии Козьмы Пруткова «Фантазия» несколько женихов добиваются руки Лизаньки, воспитанницы богатой старухи Чупурлиной. Главную роль в этих смотринах, однако, играет старухина любимая моська по имени Фантазия: она некстати пропадает — и Чупурлина ставит женихам сказочное условие: «Кто принесёт мне мою Фантазию, тот в награду получит и приданое, и Лизавету!» Разумеется, на сцену являются подложные собаки, а в последний момент возвращается и настоящая.
Лиловая собачонка
Она же Азор, она же Фемгалка, она же Серый, она же Вислый. Эта собачонка необычного окраса приблудилась к пленному Платону Каратаеву в четвёртом томе «Войны и мира». «Всё для неё было предметом удовольствия. То, взвизгивая от радости, она валялась на спине, то грелась на солнце с задумчивым и значительным видом, то резвилась, играя с щепкой или соломинкой». С этим весельем будет контрастировать собачий вой, который услышит Пьер Безухов, когда французы расстреляют Каратаева; Пьер вновь увидит лиловую собачонку перед самым своим освобождением. Самое странное в ней, конечно, эпитет «лиловая». В заметке Николая Апостолова «Лиловый» цвет в творчестве Толстого» говорится: «Этот навязчивый цвет пленяюще действовал на него, и почти в каждом своём произведении Толстой окрашивал им самые разнообразные предметы, начиная от людей и кончая полевыми цветами»; Виктор Шкловский добавлял, что «Толстой… пользовался лиловым цветом, как цветом условно-художественным». Фантасмагорическая расцветка собачонки, возможно, особенность цветовосприятия пленного Пьера, которому Толстой не раз передоверяет свои взгляды и мысли. В сериале Би-би-си по «Войне и миру» собачонка получила имя Сашенька — она показалась зрителям особенно трогательной.
Собачка — подруга льва
Среди толстовских рассказов для детей, написанных максимально простым языком, один из самых известных — о трогательных отношениях льва и собачки. В его основе — рассказ «Лев и спаниель» из французского детского сборника XVIII века; авторы французского рассказа, в свою очередь, вдохновлялись рассказами нескольких путешественников и натуралистов. Исследователь Александр Карпов в своей работе «О «Львах и собачках» показывает на множестве примеров, как из истории о великодушии властителя-льва, снисходительного к одному из своих маленьких «подданных», этот бродячий сюжет превращается в историю об удивительной дружбе: лев не съедает брошенную ему собачку, а становится её другом и вскоре после её смерти умирает сам. Во «французском» варианте сюжета речь обычно идёт о парижском Ботаническом саде (где Льва и Собачку видели многие путешественники, в том числе русские); «английский» вариант сюжета повествует о зверинце в лондонском Тауэре. Избранный Толстым зачин лишён временных примет и выглядит несколько фантастичным («В Лондоне показывали диких зверей и за смотренье брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям»), но здесь Толстой следует за другими авторами. В итоге у него получается этюд об этологии животных, лишённый морали, говорящий сам за себя. Татьяна Толстая, впрочем, предлагает биографически-фрейдистское толкование рассказа: «…Нам, начитавшимся 3. Ф., до смешного понятно, что «лев» — это сам граф и есть, а «собачка» кодирует бифштекс с кровью».
Сюзетка
Собачка есть и в последнем романе Толстого «Воскресение»: это болонка Сюзетка, принадлежащая одной из тётушек главного героя Нехлюдова. Друг молодости Нехлюдова по фамилии Шенбок перевязывает Сюзетке пораненную ногу дорогим батистовым платком. Эта малозначительная деталь — одна из немногих, что мы узнаём о Шенбоке, и она подчёркивает его существо пустого мота. Много лет спустя переродившийся Нехлюдов, встретив Шенбока, спросит себя: «Неужели я был такой. Да, хоть не совсем такой, но хотел быть таким и думал, что так и проживу жизнь».
Каштанка
О размерах одной из главных собак в русской литературе можно судить по нескольким деталям. Во-первых, это была «помесь такса с дворняжкой»; во-вторых, первый хозяин Лука Александрович называл её «насекомым существом», в-третьих, дома у доброго циркача она ездила верхом на коте; в-четвёртых, она вместе с котом умещалась в небольшом чемодане. Психологизм «Каштанки» достигает апогея в предпоследней, страшной главе о смерти гуся — отчего этот рассказ ещё современникам казался не совсем подходящим для детей. Возможно, «Каштанка» была написана под влиянием вышедшего годом раньше толстовского «Холстомера» — другой блистательной попытки изобразить психологию животного. Впрочем, существуют как минимум четыре версии, кто подал Чехову мысль написать о Каштанке, приписывал себе эту заслугу и знаменитый дрессировщик Владимир Дуров. Существует несколько экранизаций «Каштанки», лучшая из них — прекрасный мультфильм 1952 года.
Щенок, укусивший Хрюкина
«Хамелеон» Чехова: борзой щенок кусает за палец золотых дел мастера Хрюкина, в дело вмешивается полицейский надзиратель Очумелов (раннему Чехову ещё нравятся говорящие фамилии), но не понимает, что это за собака — уличная или генеральская. Как и все прочие подробности этого рассказа, отношение к собаке — показатель «хамелеонства» Очумелова: провинившийся щенок — то «наверное, бешеная», то «нежная тварь», то «чёрт знает что», то «собачонка ничего себе».