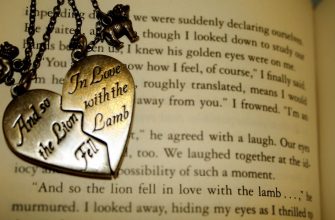Анализ рассказа И.С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда»
Автор: Olga Sheko • Октябрь 3, 2018 • Анализ книги • 2,889 Слов (12 Страниц) • 7,134 Просмотры
Анализ рассказа И.С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда»
Рассказ «Гамлет Щигровского уезда» входит в состав сборника рассказов «Записки Охотника». В 1847 году в первом номере журнала «Современник» Тургенев публикует свое небольшое произведение «Хорь и Калиныч», которое было определено как очерк и которому дали подзаголовок «Из записок охотника», хотя никаких дальнейших «Записок» у Тургенева на тот момент не было. Успех этого очерка превзошел все ожидания, в редакцию «Современника» приходили письма с просьбами печатать «Записки охотника» дальше. Тургенев продолжил работу уже за границей, куда уехал надолго в том же 1847 году. «Современник» продолжал публиковать «Записки» с 1847 по 1851 год, а в 1852 году вышло отдельное издание. В это первое отдельное издание вошло 22 очерка. Еще три рассказа «Конец Чертопханова», «Стучит» и «Живые мощи» были написаны и присоединены автором к сборнику значительно позже, после чего он издавался с 25-тью произведениями. Соединяя очерки и рассказы в книгу, Тургенев совершенно изменил их последовательность, по сравнению с тем, как они появлялись в журнальных публикациях. Цикл рассказов «Записки охотника» представляет собой единое целое со скрепляющими элементами – один автор-повествователь и разные типы настроения рассказов. Лиризм – основное настроение всего цикла. Автором-повествователем или героем-рассказчиком является не сам Тургенев, как может показаться сначала, а некий Петр Петрович из села Спасского, заядлый охотник, имя которого читатель узнает в рассказе «Живые мощи».
«Гамлет Щигровского уезда» создавался весной и летом 1848г. и впервые был опубликован в журнале «Современник» в №2 в 1849 г. Рассказ состоит из 7495 слов. В черновой редакции рассказ назывался «Обед», так как первоначально содержание его ограничивалось описанием обеда у богатого помещика, а несколько позднее была дописана остальная часть, помеченная в черновике: «К „Обеду“». Главного героя Тургенев поселил именно в Щигровском уезде Курской губернии не случайно: там находилось одно из тургеневских имений — Семеновка. Более того, в черновом варианте рассказа вместо Щигровского был назван Чернский уезд, что прямо указывает на автобиографичность тургеневского произведения: в Чернском уезде Тульской губернии находилось родовое имение отца писателя — село Тургенево. Описывая жизненный путь своего вымышленного героя, Тургенев достаточно последовательно воспроизводит события и факты своей собственной биографии. Автора и его героя сближает многое: деревенское детство, раннее увлечение поэзией, матушка, занимавшаяся воспитанием сына «со всем стремительным рвением степной помещицы». Герой тургеневского рассказа вспоминает о дяде-опекуне, ограбившем племянника. Дядя И.С.Тургенева, Н.Н.Тургенев, в течение нескольких лет был управляющим Спасским имением и у матери И.С.Тургенева а также ее сыновей были основания сомневаться в его бескорыстии. Совпадают и другие обстоятельств жизни героя произведения и самого И.С.Тургенева: Московский университет и университет в Берлине, путешествие по Италии, философские кружки, деревенское уединение и т. п. Автор поставил своего героя в хорошо знакомую ему обстановку и им самим пережитые обстоятельства.
Сюжет рассказа построен в прямой хронологической последовательности событий с отступлениями в прошлое. Конфликт происходит между личностью главного героя и обществом. Герой-рассказчик, от лица которого написано произведение, — второстепенный персонаж, имя его не упоминается в самом рассказе. Главный герой – Василий Васильевич, случайный ночной сосед по комнате героя-рассказчика, имя которого мы узнаем только в самых последних строчках произведения. Введение в действие и небольшая часть действия представлены в виде повествования от лица героя-рассказчика, наибольшая же часть текста построена
Гамлет Щигровского уезда (Примечания)
Примечания
Впервые опубликовано: Совр, 1849, № 2, отд. I, с. 275–292 (ценз. разр. 31 янв.), под № XV, вместе с рассказами «Чертопханов и Недопюскин» и «Лес и степь». Общая подпись: Ив. Тургенев.
Беловой автограф рассказа неизвестен. Черновой автограф хранится в ГПБ (ф. 795, ед. хр. 9).
В настоящем издании в текст ЗО 1880 внесены следующие исправления:
, строка 18. Вместо «вечноцехового» — «вечного цехового» (по черн. автогр., Совр и ценз. рукоп.).
, строка 18. Вместо «Фирса Клюхина» — «иностранца Фирса Клюхина» (по Совр).
, строка 25. Вместо «присоединился» — «присоседился» (по черн. автогр. и ценз. рукоп.).
, строка 16. Вместо «с вами, с вовсе» — «с вами, вовсе» (по Совр и ценз. рукоп.).
, строки 30–31. Вместо «На деле-то» — «А на деле-то» (по всем источникам до ЗО 1880).
, строка 42. Вместо «уже тогда» — «уже и тогда» (но ценз. рукоп. и всем изданиям до ЗО 1874).
, строка 23. Вместо «злая» — «скверная» (по черн. автогр., в котором слово «злая» зачеркнуто и сверху написано: «скверная»; этот эпитет не был, однако, пропущен в Совр цензурой).
, строка 25. Вместо «не можно» — «невозможно» (по черн. автогр., Совр, ценз. рукоп. и всем изданиям до ЗО 1869).
, строка 13. Вместо «Василий Васильевич» — «Василий Васильич» (по черн. автогр., Совр, ценз. рукоп. и всем изданиям до ЗО 1869).
, строка 3. Вместо «жизнь» — «жызнь» (по ценз. рукоп., где буква «ы» вписана вместо «и» и подчеркнута Тургеневым).
, строка 12. Вместо «из-за угла» — «из угла» (по черн. автогр. и Совр).
«Гамлет Щигровского уезда» создавался весной и летом 1848 г., после некоторого перерыва в работе над «Записками охотника» (последний предшествовавший ему рассказ «Смерть» написан в конце 1847 г.). Рассказ закончен вчерне не ранее последних чисел мая 1848 г. (на последнем листе автографа — начало письма с датой: «Paris, Dimanche, 28 Mai 48»). В черновой редакции рассказ назывался «Обед», так как первоначально содержание его ограничивалось описанием обеда «у богатого помещика и охотника Александра Михайлыча Г***». Несколько позднее (судя по характеру письма и другим палеографическим признакам) дописана остальная часть, помеченная в черновике: «К „Обеду“». В конце лета или в начале осени рассказ был прислан в Петербург, в редакцию «Современника». 12 (24) сентября 1848 г. Некрасов сообщал Тургеневу свое впечатление от «Гамлета…», а также «Чертопханова и Недопюскина»: «Ваши два последние присланные рассказа принадлежат к удачнейшим в „Записках охотника“» (Некрасов, т. X, с. 115).
Публикация рассказа пришлась на самый разгар цензурных гонений, связанных с революционными событиями во Франции и других европейских странах. При печатании в «Современнике» рассказ был сильно сокращен и искажен цензурой. О цензурных увечьях, по словам Э. Гонкура, сам Тургенев говорил Ф. Бюлозу (см.: Гонкур Э. и Ж. Дневник. М., 1964. Т. II, с. 429, 682). Здесь говорится, что Тургенев уступил цензуре, изъяв из рассказа «четыре или пять фраз, придававших произведению своеобразие». Была опущена вся его первая часть — сатирическое описание дворянского обеда с сановником. Цензурные искажения вносились в текст в отсутствие автора, который жил тогда за границей и не имел возможности как-либо сглаживать наносимые цензурой увечья. Оставшееся от первой части начало рассказа было присоединено к остальному тексту неуклюжей связкой: «Однако я начал не с тем, чтобы описывать гостей Александра Михайлыча и его обед. Дело в том, что кое-как дождался я вечера…». Слова «дворяне» и «помещики» повсюду изымались и заменялись социально обезличенным обозначением «гости». В результате цензурного вмешательства в ряде случаев саркастический смысл текста исчезал. Так, в описании двух военных «с благородными, но слегка изношенными лицами» (249, 32–33) печаталось: «с весьма благородными лицами»; устранено было насмешливое противопоставление качеств людей «решительных, но благонамеренных» (249, 35).
Рассказ о тупом студенте Войницыне не был пропущен в «Современник» в связи с тем, что в начале 1849 г. ожидались новые меры правительства по ограничению социального состава студенчества сыновьями дворян. Университетская тема вызывала в этих обстоятельствах особую настороженность цензуры. По журнальной редакции герой «Гамлета…» поступал не в университет, а в «пансион» (261, 34, 39; 262, 4).
Цензура выкинула из рассказа Тургенева описание бедной обстановки сельской церкви (269, 18–20) и богослужения в ней (269, 23–28). Слово «шамшил» (269, 25) в отношении дьячка не было допущено и до 1865 г. заменялось: «читал». Определение «русский» отовсюду устранялось (263, 41 — было: «русскими поручиками») или заменялось (259, 27: «русскому» — «нашему брату»; 260, 20–21: «русской жизни» — «окружающей тебя жизни»). Вместо слов: «намеки на печальную красоту русской природы» печаталось: «намеки на красоту природы» (265, 42–43). Доцензурные чтения во всех этих случаях не были восстановлены потом Тургеневым. Точно таким же образом устранялись приурочивания действия к Москве и другим русским городам: слова «in der Stadt Moskau» (262, 13) были изъяты; вместо: «один проезжий москвич» (270, 34) печаталось: «один проезжий». Следы вмешательства цензуры видны и во многих других разночтениях журнальной публикации (см. раздел «Варианты» в изд.: Т, ПСС и П, Сочинения, т. IV).
В «Гамлете Щигровского уезда» Тургенев обратился к новой для «Записок охотника» теме о судьбах русской дворянской интеллигенции, вынужденной в условиях политического бесправия в стране уходить в скорлупу замкнутых кружков, жизнь которых, при большой идейной напряженности, носила умозрительный характер, была оторвана от практики. Неожиданное на первый взгляд «нападение» Тургенева на московские философские кружки 30-х и 40-х годов, со многими участниками которых он поддерживал тесные дружеские отношения, соответствовало взглядам и Белинского, и Герцена, и молодого Салтыкова, остро критиковавшего «кружковую замкнутость» в своих первых повестях, «…я от души рад, — писал Белинский M. Бакунину 26 февраля 1840 г., — что нет уже этого кружка, в котором много было прекрасного, но мало прочного; в котором несколько человек взаимно делали счастие друг друга и взаимно мучили друг друга» (Белинский, т. 11, с. 486). «Хуже всего то, — писал он Н. А. Бакунину 9 декабря 1841 г., — что люди кружка делаются чужды для всего, что вне их кружка» (там же, т. 12, с. 77). В переписке Белинского содержится много таких суждений о «москводушии», как он называл увлечения кружковых идеалистов, и все они почти буквально повторяются отзывами о кружке тургеневского героя, прототипом которого послужил И. П. Клюшников — «Мефистофель» кружка Станкевича. Н. Л. Бродский в указанной выше (с. 415) работе «Белинский и Тургенев» убедительно показал, что как самая тема «Гамлета…», так и ее разработка были подсказаны Тургеневу Белинским, возглавившим в 40-е годы борьбу против кружкового идеализма, романтизма и узости.
В «Гамлете Щигровского уезда» обращает на себя внимание совпадение обстоятельств жизни героя с фактами из биографии самого Тургенева: Московский университет и университет в Берлине, путешествие по Италии, философские кружки, деревенское уединение и т. п. Эти совпадения — чисто внешние: автор поставил своего героя в хорошо знакомые, им самим пережитые обстановку и обстоятельства. Но за мучительной рефлексией «Гамлета» чувствуется размышление Тургенева и над своей собственной судьбой.
Затронутая Тургеневым тема вызвала в литературных кругах современников живые и разнообразные отклики. Н. А. Некрасов в письме от 27 марта (8 апреля) 1849 г. сообщал Тургеневу, что напечатанные во 2-м номере «Современника» рассказы «изрядно общипаны, но весьма понравились публике» (Некрасов, т. X, с. 129). Редактор «Современника», как сказано выше, причислял рассказ к «удачнейшим в „Записках охотника“». Такое же мнение высказывал И. С. Аксаков в письме к Тургеневу от 4 (16) октября 1852 г. (Рус Обозр, 1894, № 8, с. 476, 482).
Автор «Обозрения русской литературы за 1850 г.» (Совр, 1851, № 2, отд. III, с. 57, 61) отмечал высокую цельность, резкость и глубину выведенного здесь характера. По отзыву Ап. Григорьева, «столько же комическое, сколько трагическое» лицо Гамлета изображено Тургеневым «так истинно и просто», что «вызывает на многие вопросы» (Отеч Зап, 1850, № 1, отд. V, с. 18). Анонимный рецензент «Москвитянина» выразил свое недовольство стремлением Тургенева представить в одном лице «современное болезненное развитие в крайней степени», некоторой «уродливостью героя», которая казалась ему неправдоподобной (см.: Москв, 1851, № 1, с. 137). Однако на типичность Гамлетов для русской действительности указывал Н. Г. Чернышевский в статье о «Губернских очерках» Салтыкова-Щедрина, в которых в роли Гамлета выступал Буеракин: «Видно, немало у нас Гамлетов в обществе, когда они так часто являются в литературе, — в редкой повести вы не встретите одного из них, если только повесть касается жизни людей с так называемыми благородными убеждениями» (Чернышевский, т. IV, с. 290–291). По свидетельству П. В. Анненкова, «старый Гизо, прочитав „Гамлета Щигровского уезда“ Тургенева, увидал в этом рассказе такой глубокий психический анализ общечеловеческого явления, что пожелал познакомиться и лично поговорить о предмете с его автором» (Анненков, с. 338). Создание «Гамлета Щигровского уезда» воспринималось как творческий подвиг писателя. «Надо быть чрезвычайно большим художником, — писал в 1883 г. Н. К. Михайловский, — чтобы с таким блеском, как это сделал Тургенев, написать несколько новых вариаций на тему, эксплуатированную гигантами творчества» (Михайловский Н. К. Соч. СПб., 1897. Т. 5, с. 812).
…у богатого помещика и охотника, Александра Михайлыча Г ***. — Прототипом этого персонажа послужило реально существовавшее лицо, сведения о котором приводил М. И. Пыляев в своей книге: «Замечательные чудаки и оригиналы» (СПб., 1898, с. 260–266), где это лицо выведено под инициалами: «Н. К-ий». Этот сказочно богатый орловский помещик один из домов своей усадьбы превратил в гостиницу для своих друзей-охотников, которые съезжались к нему сотнями. Особенной странностью К-го была неприязнь к женщинам, которые в усадьбу его не допускались.
Этих господ, для красоты слога, называли также бакенбардистами. (Дела давно минувших дней, как изволите видеть.) — Указом от 2 апреля 1837 г. Николай I запретил ношение бороды и усов гражданским чиновникам (Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1838. Т. XII, с. 206). Это запрещение распространилось и на студенчество, вследствие чего ко времени написания рассказа бакенбарды у студентов давно уже вышли из употребления.
…лишь бы взятки брал да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян! — Лупихин употребляет здесь каламбур, основанный на ложной связи понятия «столбовой дворянин» со «столбами», «колоннами». Столбовой дворянин — потомственный дворянин старинного рода.
Сановник приехал. — И. Делаво, пользовавшийся, как сказано, советами Тургенева, дал к этим словам примечание: «Эта внушительная фигура была, вероятно, губернатором» (Delaveau, p. 371). На полях чернового автографа против описания встречи сановника Тургенев записал имена: «кн. Васильчиков, граф Блудов, граф Уваров». Эта запись — прямое свидетельство того, что прототипами тургеневского «сановника» были виднейшие представители николаевской бюрократии.
«Моей судьбою очень никто не озабочен». — Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Завещание» (1840): «Моей судьбой, сказать по правде, очень никто не озабочен».
…Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre, сказал кто-то. — Из «Посвящения Альфреду Т.» драматической поэмы «Coupe et les livres» («Уста и чаша») А. Мюссе (1832).
…какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? — «Энциклопедия философских наук» (1817) — одно из главных произведений Гегеля, усиленно штудировавшееся в московских философских кружках 30-х годов.
…послушай-ка наших московских — не соловьи, что ли? — Да в том-то и беда, что они курскими соловьями свищут, а не по-людскому говорят… — А. Е. Грузинский («Литературные очерки», с. 240) полагал, что здесь имелся в виду М. А. Бакунин, ко времени публикации рассказа бывший уже политическим эмигрантом, вследствие чего выписанные слова не были допущены в «Современнике» цензурой. Однако с гораздо большим основанием в упоминании «наших московских» следует видеть намек на славянофилов, с их отвлеченным философствованием, с их искусственным, далеким от живой народной речи языком.
Помнится, Шиллер сказал где-то: Gefährlich ist’s den Leu zu wecken… — Неточная цитата из «Песни колокола» («Das Lied von der Glocke») Ф. Шиллера.
…снюхивался с отставными поручиками… — По свидетельству Е. М. Феоктистова, под «отставными поручиками» имелся в виду член кружка Станкевича Н. Г. Фролов (1812–1855) — см.: Т сб (Кони), с. 164. Из пажеского корпуса Фролов был выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк, откуда вышел в отставку, почувствовав влечение к научным занятиям. См. характеристику его в кн.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., 1950, с. 215–224.
…постоял в Риме перед Преображением, и перед Венерой во Флоренции постоял… — «Преображение» — картина Рафаэля в Ватикане; «Венера во Флоренции» — так называемая Венера Медицейская работы неизвестного скульптора во флорентинском музее Уффици (см. стихотворение Тургенева «К Венере Медицейской» (1837) и примеч. к нему: наст. изд., Сочинения, т. 1, с. 11–12, 442–444).
…смешно же замужней женщине томиться безымённой тоской и петь по вечерам: «Не буди ты ее на заре». — Неточно цитируемое начало романса «На заре ты ее не буди» на слова А. А. Фета. Музыка приписывается А. Е. Варламову.
В одной трагедии Вольтера — какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. — Французские комментаторы «Записок охотника» — Л. Жуссерандо и А. Монго не дают этому месту удовлетворительного объяснения.
«Гамлет Щигровского уезда» и проблема «онегинской» традиции в раннем творчестве И.С. Тургенева
| Рубрика | Литература |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.06.2013 |
| Размер файла | 26,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рассказ «Гамлет Щигровского уезда» и проблема «онегинской» традиции в раннем творчестве И. С. Тургенева
Известно, что метафора «лишний человек», ставшая впоследствии значимым концептом эпохи, является художественным открытием Тургенева. Она фигурирует в названии одной из его повестей, по времени написания очень близкой к «Гамлету Щигровского уезда» и разрабатывающей во многом схожий художественный тип. Центральный персонаж «Гамлета Щигровского уезда», как и герой-рассказчик повести «Дневник лишнего человека», хотя и генетически связан с пушкинским Онегиным, все же имеет принципиальное отличие от своего литературного предшественника. Онегин мыслился своим создателем как лучший представитель своего времени, не случайно в нем сильно героическое начало, Тургенев же подчеркнет в своем персонаже разъедающую рефлексию, которая умаляет внутренние силы человека. Тургенев не видел в современном ему мире героев, сомасштабных Онегину. В своих произведениях он нередко травестирует пушкинского героя. Судьба Ленского, если бы он остался жив и его бы его ждал «обыкновенной удел», представлялась Тургеневу более жизненной. И он старался осмысливать судьбу современных Онегиных с учетом судьбы Ленских.
Тургеневский же персонаж описывает свое времяпровождение так: « и поплетешься к приятелю и давай трубочку курить, пить жидкий чай стаканами да толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах» [8, IV, с. 275]. Если пушкинских героев живо занимает разговор и его предмет, во время общения происходит некоторая душевная работа, то тургеневский герой ходит к друзьям и рассуждает о «высоком» скорее по привычке, чтоб не отстать от всех и казаться оригинальным. Между тем он сам впоследствии сознает бесплодность такого прожигания времени, но в молодости не сопротивляется ему и даже находил в нем удовольствие.
Однако будет неправомерным говорить о том, что Гамлет Щигровского уезда сам не увлекался разговорами о любви, поэзии, красоте и философии. Все эти предметы в юности живо волновали его, но если у Ленского мечтательность и поэтический склад души перешли в творчество, то у Гамлета эти качества остались без развития, а потом и оказались предметом его собственной насмешки. В пользу того, что герой рассказа был одарен поэтическим складом натуры, говорит его любовь к природе. Сам он не упоминает этого своего качества, но оно раскроется при описании вечера, в который он сделал предложение своей супруге: «Я глядел тогда на зарю, на деревья, на зеленые мелкие листья, уже потемневшие, но еще отделявшиеся от розового неба. » [8, IV, с. 291]. Несомненно, эта черта сближает его с Ленским. Кстати, предложение Софье Гамлет Щигровского уезда сделает под впечатлением от поэтического вечера, «страстно задумчивой фразы Бетховена» [8, IV, с. 291], наигрываемой на фортепьяно: «А я сидел, сидел, слушал, глядел, сердце у меня расширялось и мне опять казалось, что я любил» [8, IV, с. 291]. Такая впечатлительность, поэтический склад натуры, несомненно, говорят о связи Гамлета Щигровского уезда с образом Ленского.
Герой два раза оказывается в ситуации любви, и оба раза она не оказывается для него той спасительной силой, которой станет это чувство в пушкинском романе. Очевидно, Тургеневу в начале 1850-х годов подобные смыслы любви казались слишком идеальными и нежизненными.
Интересно, что в описании молодости Гамлета Щигровского уезда есть немало пересечений с романом Пушкина. Часто они травестировано перекликаются с историей Онегина. Так, гувернером пушкинского героя был «француз убогий», а тургеневского воспитывал «французский гувернер» немец Филлипович «из нежинских греков» [8, IV, с. 283]. И эта параллель могла показаться лишь типологически свойственной тому времени случайностью, если бы не другая аллюзия. В романе читаем: «Когда же юности мятежной / Пришла Евгению пора, / Пора надежд и грусти нежной, / Monsieur прогнали со двора» [6, V, с. 10]. В рассказе: «Вот, как мне стукнуло шестнадцать лет, матушка моя, нимало не медля, взяла да прогнала моего французского гувернера » [8, IV, с. 283].
Конечно, такие переклички не случайны. Они настраивают читателя на невольное сравнение Онегина и Гамлета Щигровского уезда. Тем важнее кажется утверждение тургеневского Гамлета, следующее сразу за рассказом о юности: «недостаток оригинальности уже и тогда во мне замечался» [8, IV, с. 283]. Онегина, при всех его отрицательных чертах, обыкновенным назвать невозможно. Напротив, он отличается оригинальностью суждений, независимым и острым умом, откровенностью и даже прямотой. Это и станет залогом развития его души в дальнейшем. Тургеневский же герой, при несомненном уме, прекрасном образовании останется ординарным, не способным на сильные, большие чувства и дела. Все лучшие порывы его души будут обречены на угасание при самом возникновении.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Краткая биографическая справка из жизни И.С. Тургенева. Образование и начало литературной деятельности Ивана Сергеевича. Личная жизнь Тургенева. Работы писателя: «Записки охотника», роман «Накануне». Реакция общественности на творчество Ивана Тургенева.
презентация [842,5 K], добавлен 01.06.2014
Понятие о лингвистическом анализе. Два способа повествования. Первичный композиционный признак художественного текста. Количество слов в эпизодах в сборнике рассказов И.С. Тургенева «Записки охотника». Распределение эпизодов «Природа» в зачинах рассказов.
курсовая работа [379,2 K], добавлен 05.07.2014
Биография И.С. Тургенева. Переезд семьи Тургеневых в Москву и первые литературные опыты будущего писателя. Влияние дружбы Тургенева и Белинского на дальнейшее развитие творчества Тургенева. Антикрепостнический характер сборника «Записки охотника».
реферат [25,5 K], добавлен 02.01.2010
Традиции и новаторство пейзажа «Записок охотника» И.С. Тургенева. Отличительные черты первых очерков и рассказов «Записок охотника», где картины природы чаще всего являются или фоном действия, или средством создания местного колорита, палитра писателя.
контрольная работа [33,2 K], добавлен 26.06.2010
Краткая биография русского прозаика, поэта, драматурга, критика, публициста, мемуариста и переводчика И Тургенева. Его переход от поэтических опытов к «Запискам охотника», роль дружбы с Белинским на данном этапе. Мнение критиков о произведении Тургенева.
презентация [742,2 K], добавлен 21.11.2013