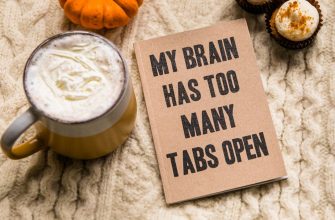Патриотизм в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого
Блистательно искусство Толстого — военного писателя развернулось в цикле «Севастопольских рассказов».
“Чувство родины”, патриотизм, одушевляет весь цикл рассказов о Севастопольской обороне В Севастополе Толстой лучше узнал и еще больше полюбил простых русских людей — солдат, офицеров. Он почувствовал себя самого частицей огромного целого — народа, войска, защищающего свою землю. Зорким глазом писателя он заметил множество деталей военного быта, которые перенес в свои рассказы.
Главное, что увидел и узнал Толстой еще на Кавказе и потом в Севастополе,— психологию разных “типов” солдат, разные — и низменные, и возвышенные — чувства, руководящие поведением офицеров. Здесь он познал “чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого,— любовь к родине”.
Прочитав этот очерк в “Современнике”. И. С. Тургенев написал: “Статья Толстого о Севастополе — чудо! Я прослезился, читая ее, и кричал: ура. ”[7].
Рассказывая потом всю правду о человеке на войне. Толстой именно эту правду провозглашает “главным героем” своего произведения. Он любит правду “всеми силами души” и старается воспроизвести “во всей ее красоте”. Этот герой, то есть правда, по глубокому убеждению Толстого, “всегда был, есть и будет прекрасен”. Но именно о войне рассказать правду чрезвычайно трудно. Многое совершается так неожиданно! И почти каждому хочется выглядеть героем.
Умение Толстого докапываться до самых глубоких пластов душевной жизни, подмечать мимолетные детали, которые только поверхностному наблюдателю кажутся незначительными, замечательно проявилось в его военных рассказах.
Писатель продолжает исследовать поведение человека на войне — на этот раз в тяжелейших условиях неудачных сражений. Он склоняется “перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством”. В лицах, осанках, движениях солдат и матросов, защищающих Севастополь, он видит “главные черты, составляющие силу русского”. Он воспевает стойкость простых людей и показывает несостоятельность “героев”, точнее тех, кто хотят казаться героями.
Высокая человечность, прославление мира как естественного состояния жизни соединяются в Севастопольских рассказах с патриотическим воодушевлением.
От этих замечательных рассказов — прямой путь к роману-эпопее “Война и мир”. Севастопольские рассказы — выдающееся достижение художественного творчества Льва Толстого. И вместе с тем образец для писателей, работавших после Толстого в этом жанре, в частности для советских писателей, свидетелей Великой Отечественной войны.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)
Примеры патриотизма в севастопольских рассказах
Блистательно искусство Толстого — военного писателя развернулось в цикле «Севастопольских рассказов».
“Чувство родины”, патриотизм, одушевляет весь цикл рассказов о Севастопольской обороне В Севастополе Толстой лучше узнал и еще больше полюбил простых русских людей — солдат, офицеров. Он почувствовал себя самого частицей огромного целого — народа, войска, защищающего свою землю. Зорким глазом писателя он заметил множество деталей военного быта, которые перенес в свои рассказы.
Главное, что увидел и узнал Толстой еще на Кавказе и потом в Севастополе,— психологию разных “типов” солдат, разные — и низменные, и возвышенные — чувства, руководящие поведением офицеров. Здесь он познал “чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого,— любовь к родине”.
Прочитав этот очерк в “Современнике”. И. С. Тургенев написал: “Статья Толстого о Севастополе — чудо! Я прослезился, читая ее, и кричал: ура! ”[7].
Рассказывая потом всю правду о человеке на войне. Толстой именно эту правду провозглашает “главным героем” своего произведения. Он любит правду “всеми силами души” и старается воспроизвести “во всей ее красоте”. Этот герой, то есть правда, по глубокому убеждению Толстого, “всегда был, есть и будет прекрасен”. Но именно о войне рассказать правду чрезвычайно трудно. Многое совершается так неожиданно! И почти каждому хочется выглядеть героем.
Умение Толстого докапываться до самых глубоких пластов душевной жизни, подмечать мимолетные детали, которые только поверхностному наблюдателю кажутся незначительными, замечательно проявилось в его военных рассказах.
Писатель продолжает исследовать поведение человека на войне — на этот раз в тяжелейших условиях неудачных сражений. Он склоняется “перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством”. В лицах, осанках, движениях солдат и матросов, защищающих Севастополь, он видит “главные черты, составляющие силу русского”. Он воспевает стойкость простых людей и показывает несостоятельность “героев”, точнее тех, кто хотят казаться героями.
Высокая человечность, прославление мира как естественного состояния жизни соединяются в Севастопольских рассказах с патриотическим воодушевлением.
От этих замечательных рассказов — прямой путь к роману-эпопее “Война и мир”. Севастопольские рассказы — выдающееся достижение художественного творчества Льва Толстого. И вместе с тем образец для писателей, работавших после Толстого в этом жанре, в частности для советских писателей, свидетелей Великой Отечественной войны.
Человек и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого.
Находясь на военной службе, Лев Николаевич Толстой мучительно думал о войне. Что такое война, нужна ли она человечеству? Эти вопросы встали перед писателем в самом начале его литературного поприща и занимали его на протяжении жизни. Толстой бескомпромиссно осуждает войну. “Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом?” Осенью 1853 года началась война России с Турцией, Толстому разрешено было перевестись в Севастополь. Попав в осажденный город, Толстой был потрясен героическим духом войска и населения. “Дух в войсках выше всякого описания,— писал он брату Сергею.— Во времена Древней Греции не было столько геройства”. Под грохот орудий четвертого бастиона, окутанный пороховым дымом, Л. Н. Толстой начал писать свой первый рассказ о героической обороне города, “Севастополь в декабре месяце”, за ним последовали два других: “Севастополь в мае” и “Севастополь в августе 1855 года”.
В своих рассказах о трех этапах Крымской эпопеи Толстой показал войну “не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами… а в настоящем ее выражении— в крови, в страдании, в смерти…”. Под его гениальным пером воскресает героическая оборона Севастополя. Взяты только три момента, выхвачены только три картины из отчаянной, неравной борьбы, почти целый год не утихавшей и не умолкавшей под Севастополем. Но как много дают эти картины! Это не только великое художественное произведение, но и правдивый исторический документ, драгоценное для историка показание участника.
Первый рассказ говорит о Севастополе в декабре 1854 года. Это был момент некоторого ослабления и замедления военных действий, промежуток между кровавой битвой под Инкерманом и под Евпаторией. Но если могла несколько отдохнуть и поправиться полевая русская армия, стоявшая в окрестностях Севастополя, то город и его гарнизон не знали передышки и забыли, что значит слово “покой”. Солдаты и матросы трудились под снегом и проливным дождем, полуголодные, истерзанные.
Толстой показывает, как используют солдаты короткое перемирие, чтобы убрать и захоронить убитых. Неужели враги, только что в яростной рукопашной борьбе резавшие и коловшие друг друга, могут так дружелюбно разговаривать, с такой лаской, так любезно и предупредительно относиться друг к другу? Но и здесь, как и везде, Толстой предельно искренен и правдив, он очевидец, ему не надо придумывать, домысливать, действительность намного богаче фантазии.
Новаторство военных рассказов Толстого заключается в том, что, рисуя войну правдиво, без прикрас, писатель в центре своих батальных сцен поставил живого человека, раскрыл его внутренний мир, мотивировал действия и поступки его сокровенными, глубоко затаенными мыслями и чувствами. При этом в центре военных повествований Толстого стоит всегда человек из народа, своим ратным трудом, своим неприметным подвигом решающий судьбы отечества, а все другие персонажи освещаются с позиции той великой цели, которой вдохновлён народ.
Исключительно разнообразны приемы психологизации, применяемые Толстым. Раскрывая «диалектику души» своих героев, он показывает, как отмечал Чернышевский, не только конечные результаты душевных движений, но и сам процесс внутренней жизни.
На первом плане в богатейшем арсенале приёмов психологической характеристики героев стоит у Толстого точное воспроизведение внутренней речи. Автор как бы «слышит» потаённые разговоры, которые люди ведут с самими собой, как бы «видит» весь процесс движения мысли и точно его воспроизводит в рассказе. И именно потому, что писатель глубоко проникает в души своих героев, их «неслышные» разговоры становятся самой правдивой и убедительной их характеристикой.
Порою, сталкивая двух персонажей, автор одновременно «слышит» мысли их обоих и передает их нам. Получается своеобразный внутренний дуэт, параллельный процесс двух взаимосвязанных мышлений.
Но особенной художественной силы достигает Толстой в изображении предсмертных размышлений своих героев. Перед лицом смертельной опасности ощущения человека особенно остры. С молниеносной быстротой проносятся перед его умственным взором образы и воспоминания, зарождаются и исчезают ощущения, возникают и сменяются вереницы мыслей. Надо обладать гениальным даром психолога, высшей способностью проникать во внутренний мир людей, чтобы правдиво изобразить эти неповторимые, сокровенные минуты.
Раскрывая перед нами внутренний мир героев, Толстой не ограничивается ролью объективного наблюдателя этого мира. Он активно вмешивается в самонаблюдения героев, в их размышления, напоминает нам то, что они забыли, исправляет все отступления от правды, которые они допускают в своих мыслях и поступках. Такое авторское вмешательство помогает более углубленному восприятию внутренних переживаний персонажей, выявляет их подлинный характер. Чаще всего прием авторского вмешательства служит Толстому для прямого разоблачения персонажа, для «срывания масок».
От «Севастопольских рассказов» многое важное идет в творчестве Л.Н.Толстого. От них прямой путь к «Войне и миру». Б.М. Эйхенбаум назвал очерки о Севастополе своеобразными «этюдами» к «Войне и миру»: «Здесь подготовлены и отдельные детали, и некоторые лица, и разнообразные «тональности», и даже сплетение батального жанра с семейным».
От «Севастопольских рассказов» многое идет в русской литературе, и больше всего, конечно, эта толстовская, эта обязательная после Толстого потребность правды при изображении войны. Все большие русские и зарубежные писатели, авторы произведений о войне, испытывали эту потребность правды. После Толстого она стала непременным долгом художника, законом художественного творчества.
Дата добавления: 2019-09-13 ; просмотров: 4124 ; Мы поможем в написании вашей работы!
«Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого: автор и читатель в поисках правды
Когда в № 1 журнала «Современник» за 1856 г. был опубликован рассказ «Севастополь в августе» за подписью «граф Л.Н. Толстой», это стало первым появлением полной подписи Льва Николаевича Толстого (1828–1910) в печати. К тому времени он уже опубликовал и первую часть своей автобиографической трилогии, «Детство», и «кавказские» рассказы «Набег» и «Рубка леса». Да и два других «севастопольских» текста также появились в «Современнике», но только к началу 1856 г. Толстой счёл собственные литературные занятия достаточно серьёзными для того, чтобы публично раскрыть свою фамилию. Уже одного этого факта хватило бы, чтобы сохранить в истории русской литературы цикл «Севастопольские рассказы» (1855 г.), создание которого, таким образом, стало окончательным формированием Толстого-писателя.
Можно говорить, однако, и об обратном: как на «Севастопольские рассказы» легли отблески последующей славы Толстого, так и сами они, в свою очередь, обеспечили ему начало этой славы, став одним из тех удивительных феноменов, на которые так богата история русской литературы. Критики и коллеги-писатели проявили редкостное единодушие в своих похвалах «севастопольскому» циклу, мгновенно причислив Толстого к ряду мастеров изящной словесности. Причина такой реакции формулировалась очень просто: Толстой в «Севастопольских рассказах» показал войну такой, какой никто её раньше не показывал.
Прежде всего это касалось особенностей художественного взгляда во всех трёх текстах цикла («Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года»). С одной стороны, это был взгляд «изнутри», с позиции действующего участника обороны Севастополя – ключевого пункта сражений Крымской войны (1853–1856 гг.), в которой Российской империи пришлось противостоять сразу трём крупным противникам (Британской, Французской и Османской империям), не считая их сателлитов. Толстой, артиллерийский офицер, нёсший службу на 4-м бастионе (в самом опасном в городе месте), уже в первом тексте цикла, «Севастополь в декабре месяце», всячески подчёркивает эту позицию непосредственного участника происходящего. Точность боевых и бытовых подробностей в его изложении сочетается со специфическим тоном спокойной усталости человека, для которого война стала привычным, даже обыденным занятием. Во время первой, журнальной публикации цикла это ощущение подкреплялось тем обстоятельством, что рассказы появлялись в печати буквально «по горячим следам» происшествий и тем самым одновременно выполняли и информативную (журналистскую), и обобщающую (художественную) функции.
С другой стороны, очевидна противоположная тенденция повествования – представление свежих, ярких впечатлений, выбор неожиданных ракурсов, акцент на описание без объяснения. Взгляд бывалого очевидца постоянно дополняется взглядом новичка, только что прибывшего в город и ещё не освободившегося от своих иллюзий, или взглядом сугубо мирного человека, жителя Севастополя, угодившего в кровавую сумятицу. Этот приём Толстой дважды доводит до предела, вводя в повествование персонажей-детей и их реакцию на ужасы войны:
«Посмотрите лучше на этого 10-летнего мальчишку, который в старом – должно быть, отцовском картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала перемирья вышел за вал и всё ходил по лощине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесённых тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв недвижно довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул её ещё раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на своё место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости» (с) Л.Н. Толстой «Севастополь в мае»
Литературный критик, филолог и биограф Толстого Виктор Борисович Шкловский именно на материале его творчества сформулировал свою концепцию остранения – художественного приёма, заключающегося в «выводе вещи из автоматизма восприятия», демонстрации её под необычным углом зрения или с позиции того, кто видит её впервые и не знает её применения, а потому отмечает в ней необычное, даёт неожиданную оценку, заставляет воспринимать её как нечто странное, иногда даже разоблачает её для читателя. То, что в «Войне и мире» вырастет в целую картину «Пьер Безухов на Бородинском поле», успешно реализуется уже здесь, в «Севастопольских рассказах»: в совмещении восприятия повествователя и читателя в первом рассказе «Севастополь в декабре месяце» и в сочетании сюжетных линий двух братьев Козельцовых, опытного Михаила и новичка Володи, в третьем рассказе «Севастополь в августе 1855 года».
То же можно сказать о полижанровой природе цикла, написанного на стыке публицистики и художественной словесности. При движении от первого к третьему «севастопольскому» тексту отчётливо заметно постепенное ослабление журналистского и усиление литературного начала.
Первый рассказ «Севастополь в декабре месяце» в откликах современников Толстого упорно называется «статьёй». Он представляет собой набор отдельных жанровых и описательных сцен, посвящённых различным аспектам военной и мирной жизни в осаждённом Севастополе. В единую цепь эти сцены связаны изначально заданной ситуацией повествования от 2-го лица, создающей эффект непосредственного присутствия читателя в городе – впрочем, присутствия, неуклонно направляемого опытным повествователем, который преспокойно манипулирует вниманием своего собеседника и внушает ему необходимую оценку увиденного:
«Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведёт вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки – весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесённой на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте» (с) Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце»
Эта манера повествования позволит филологу Борису Михайловичу Эйхенбауму (другу В.Б. Шкловского) назвать первый рассказ цикла «путеводителем по Севастополю»; по своей структуре он оказывается ближе всего к жанру физиологического очерка, каким его создала «натуральная школа» русской литературы, или (в современных терминах) репортажа с места событий.
Второй рассказ «Севастополь в мае» уже сконцентрирован вокруг индивидуальных характеров вымышленных персонажей. Сюжетообразующей для него становится история штабс-капитана Михайлова и других участников обороны города, однако их выбор на роли действующих лиц по-прежнему объясняется функциями скорее очерка, чем рассказа. Герои «Севастополя в мае» подобраны Толстым так, чтобы показать читателю спектр мотивов, двигающих действиями людей на войне. Основная задача автора здесь – разоблачить тщеславие, которое так или иначе свойственно большинству персонажей рассказа и заставляет их пренебрегать опасностью, сдерживать естественные чувства и слишком зависеть от чужого мнения. Ключевым эпизодом здесь становится отмеченная Александром Павловичем Скафтымовым и охотно цитируемая другими исследователями пятая главка рассказа, в которой один и тот же армейский офицер приходит с поручением к одному и тому же генералу, но в первый раз – в мирное время, во второй – во время боя. Его робости и неловкости в первом случае («Я. мне приказано. я могу ли явиться к ген. к его превосходительству от генерала NN?») соответствует презрительное отношение адъютантов генерала, его деловитой отрывистости во второй сцене («С бастиона. Генерала нужно») – их предупредительность. Что интересно, в первом эпизоде поведение адъютантов неуловимо напоминает отношение повествователя из рассказа «Севастополь в декабре месяце» к ведомому им читателю. Последовавшее же нападение французов, как оказывается, не только сокрушает высокомерие персонажей, но и сокращает до минимума количество публицистических отступлений в тексте. Толстой (осознанно или нет) демонстрирует в «Севастополе в мае» не только то, как ложные мотивы человеческого поведения не проходят проверки экстремальной ситуацией, но и то, как в той же ситуации художественная правда торжествует над манипулирующим мнением.
Наконец, третий рассказ «Севастополь в августе 1855 года» практически полностью сосредоточен на художественном изображении человеческих характеров в их развитии. Н.А. Некрасов в своей оценке его не поскупился на похвалы, отметив в качестве достоинств «меткую, своеобразную наблюдательность, глубокое проникновение в сущность вещей и характеров, строгую, ни перед чем не отступающую правду, избыток мимолётных заметок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью глаза, богатство поэзии, всегда свободной, вспыхивающей внезапно и всегда умеренно, и, наконец, силу — силу, всюду разлитую, присутствие которой слышится в каждой строке, в каждом небрежно обронённом слове». Принцип частного человека на войне, составляющий основу повествования в «Войне и мире», успешно применяется Толстым уже здесь: история гибели двух братьев Козельцовых даёт читателю возможность прочувствовать весь ужас и величие решающих боёв за Севастополь, а сами судьбы персонажей становятся едва ли не первыми набросками сюжетных линий Андрея Болконского и Пети Ростова в будущем романе-эпопее. Кроме того, предельная смысловая нагрузка в «Севастополе в августе 1855 года» ложится уже не на публицистические пассажи, а на точно выбранную художественную деталь, будь то красная косоворотка Володи Козельцова, которая подчёркивает его романтическую устремлённость, но при том делает слишком выделяющимся на стенах бастиона для вражеского глаза, или исковерканная сослуживцами фамилия юнкера Вланга, намекающая на его повышенную чувствительность и подвижность психики. Даже о трагическом финале севастопольской осады – сдаче города, которая ещё в первом рассказе объявлялась немыслимой, – автор сообщает читателю не в форме публицистического упрёка принявшим решение оставить Севастополь, а с помощью неподдельно художественной картины прощания с городом его защитников. Сам образ войска здесь приобретает масштаб грандиозной стихии:
«Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мёртвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить ещё под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и, молча, не шевелясь, с трепетом, ожидали конца мрачной ночи.
Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой тесноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, – от места, всего облитого его кровью – от места, 11 месяцев отстаиваемого от вдвое сильнейшего врага, и которое теперь велено было оставить без боя» (с) Л.Н. Толстой «Севастополь в августе 1855 года»
Так из совмещения противоположных ракурсов, столкновения контрастных оценок и, в конце концов, из борьбы автора с собственным материалом постепенно выкристаллизовываются ключевые художественные открытия Толстого, которые, будучи применены впоследствии в рамках крупных форм романа и романа-эпопеи, поставят его в ряд несомненных классиков мировой литературы. Главным же достижением писателя становится принципиально новый взгляд на природу человеческой психики и способы отображения её в литературном произведении.
Наиболее точно эту особенность сформулирует Николай Гаврилович Чернышевский. Прочитав рукопись «Севастополя в мае», он отметит: «Изображение внутреннего монолога надобно, без преувеличения, назвать удивительным». Само понятие «внутренний монолог» при этом отнюдь не будет новым словом в литературе, приём подробного воспроизведения размышлений персонажа охотно использовался предшественниками Толстого как в России, так и за рубежом (об этой традиции исчерпывающе пишет А.П. Скафтымов в статье « Идеи и формы в творчестве Льва Толстого »). Новой была именно реализация этого приёма в «Севастополе в мае», где вместо осознанного рассуждения персонажа, сопоставимого со сценическим монологом по своей развёрнутости и обстоятельности, читатель сталкивался с хаотичным потоком обрывочных мыслей, чувств, ощущений, неуловимо перетекающих друг в друга и создающих эффект замедленного времени (в ХХ веке эта традиция перерастёт в художественный приём «потока сознания», иррационального и бессвязного):
«Прошла ещё секунда, – секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.
«Кого убьёт – меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так всё кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, – и я могу ещё жив остаться. А может быть одного Михайлова убьёт, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе – меня». Тут он вспомнил про 12 р., которые был должен Михайлову, вспомнил ещё про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришёл ему в голову; женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблён 5 лет тому назад, и которому не отплатил за оскорбленье, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего – ожидания смерти и ужаса – ни на мгновение не покидало его» (с) Л.Н. Толстой «Севастополь в мае»
Это восприятие человеческого сознания как величины переменной, зыбкой в своих контурах и непостоянной в наполнении, соединилось со склонностью Толстого изображать любое явление через сопоставление и совмещение противоположностей. В итоге писатель отказывается от представления характеров своих персонажей в пользу передачи их сиюминутного психологического состояния, выражаемого через клубок противочувствий. Н.Г. Чернышевский назовёт эту особенность психологического рисунка в творчестве Толстого «диалектикой души»: «Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другое чувство, снова возвращается к прежней исходной точке и опять странствует, изменяясь, по всей цепи воспоминаний». Человек у Толстого не замкнут в статичности своего характера, а его поведение в данный момент зависит от множества факторов: нравственных убеждений, личного опыта, физиологического состояния, влияния общественных условностей и нынешней обстановки и т.д. Кроме того, чувство, переживание героя всегда разворачивается на глазах читателя, оно воспринимается не с внешней, обобщающей позиции, а с внутренней – с позиции свидетеля. Поэтому сиюминутное состояние персонажа не может служить основанием для прогноза его будущего; ни одно из решений человека не определяет его дальнейшей судьбы полностью.
Вместе с тем «диалектика души» оказывается у Толстого не просто художественным приёмом, но основой целостной философии личности. Человеческое сознание представляется писателю сложным соединением сознательного и бессознательного, естественного и надуманного, психического и физиологического, а сам человек – существом незавершённым и находящимся в процессе постоянного нравственного поиска. По Толстому, несомненным достоинством личности оказывается не твёрдость моральных убеждений, а наоборот – готовность к развитию, переосмыслению идеалов, освобождению от навязываемой обществом моральной косности. Простительно в этом контексте искреннее заблуждение, проистекающее из добрых чувств и намерений, но не бездумное следование догмам общественного мнения, даже если оно и побуждает человека к добродетельному существованию.
«Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться, и лишаться. А спокойствие – душевная подлость» (с) Л.Н. Толстой, письмо А.А. Толстой (1857 г.)
С этим новым взглядом на войну непосредственно связана и проблема патриотизма (для Толстого это именно проблема), имеющая весьма неоднозначное решение, а возможно, и не имеющая его вовсе. С одной стороны, писатель отдаёт должное героизму русских воинов, описывая их стойкость и отвагу, их удивительное самообладание перед лицом смерти – как формулирует сам Толстой, «главные черты, составляющие силу русского, – простоты и упрямства». В рассказе «Севастополь в августе 1855 года» Козельцов-старший умирает со словами «Слава Богу», полагая, что ценой своей жизни способствовал отражению французов, и желая младшему брату такой же счастливой смерти. В сцене же оставления Севастополя войском, завершающей третий рассказ и вместе с ним весь цикл, «невыразимая горечь в сердце», «раскаяние, стыд и злоба» охватывают всех персонажей без исключения, объединяя их этими пусть печальными, но всё же коллективно испытываемыми чувствами.
Вместе с тем при чтении «Севастопольских рассказов» не может остаться незамеченным стремление Толстого максимально снизить героический пафос. Он старательно избегает изображения парадной стороны военных действий, а там, где это оказывается невозможно, не позволяет читателю искренне сопереживать описываемой картине (как в сцене торжественных похорон в первом рассказе, цитировавшейся выше). Точно так же дискредитируется поведение офицеров, отказывающихся пригибаться при звуке приближающейся бомбы, – автор видит в этом лишь браваду, показное легкомыслие, произрастающее из тщеславия. Про одного из персонажей второго рассказа «Севастополь в мае», адъютанта Калугина, сказано прямым текстом: «…он был самолюбив и одарён деревянными нервами, то, что называют, храбр, одним словом». В благородной смелости герою решительно отказано, взамен он наделяется эгоцентризмом и нечувствительностью, если не сказать тупостью. В конечном счёте почти любое явное проявление любви к Родине и сознательная готовность отдать за неё жизнь либо отрицаются автором «Севастопольских рассказов», либо разоблачаются как несостоятельные самим ходом вещей (как предсмертная радость Козельцова-старшего, проистекающая из незнания того, что Малахов курган взят французами). Козельцов-младший признаётся, что не мог «жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество», так застенчиво, «как будто сбирался сказать что-нибудь очень стыдное». Иными словами, патриотизм допускается Толстым только как очень личное и потому глубоко сокровенное чувство, публичное проявление которого недопустимо.
Когда в последней части романа «Анна Каренина» Константин Лёвин заявит о неуместности российского участия в Балканской войне в качестве помощи братским славянским народам, он также сделает это в полном соответствии с общей философией Толстого. Единственное, что может объяснить для Лёвина убийство, – это непосредственное, т.е. естественное чувство, но «такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть». Заявление это своей безапелляционностью вызовет гневную отповедь Ф.М. Достоевского, придерживавшегося прямо противоположной точки зрения и возмущённого прежде всего тем, что Толстой эту точку зрения заранее объявил несостоятельной. Тут обнаруживается, пожалуй, главный парадокс художественного мировоззрения Толстого, демонстрируемый в том числе и в «Севастопольских рассказах»: многосоставность и даже противоречивость авторской позиции, требование от героев постоянных нравственных исканий уживаются в произведениях писателя с поучающим, наставническим тоном повествования, стремлением обязательно внушить читателю достаточно ясно сформулированную идею. Если стереотип о проповедническом характере русской классической литературы стоит вообще рассматривать всерьёз, то в наибольшей степени, пожалуй, он применим именно к творчеству Толстого, видевшего цель искусства в изображении открытой автором истины.
«Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой её? Все хороши и все дурны.
Ни Калугин с своей блестящей храбростью (bravoure de gentilhomme) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший на брани за веру, престол и отечество, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест, – ребёнок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.
Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его, и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда» (с) Л.Н. Толстой «Севастополь в мае»
Уже сама постановка в литературном тексте подобных вопросов с целью их непременного решения (каким бы неожиданным оно при этом ни показалось читателю) – черта, в высшей степени характерная для мировоззрения Толстого-человека и Толстого-писателя.