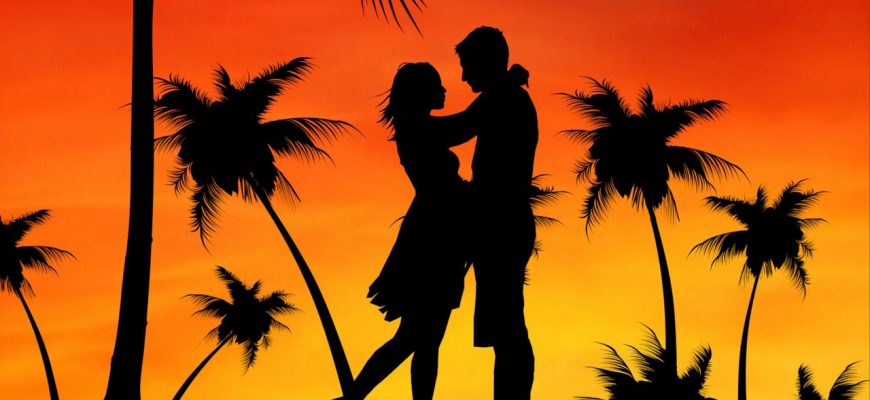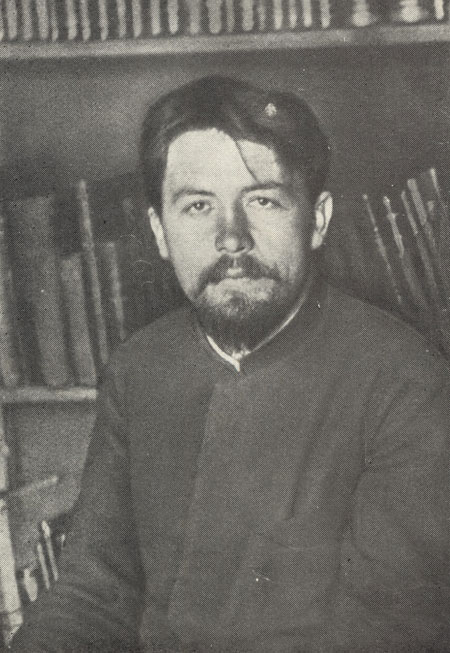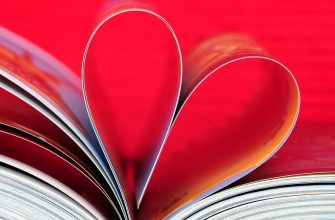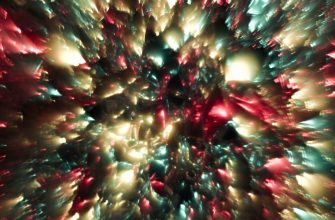Задание №1. «По горячим следам».
Перечислите причины возможных ошибок в выборе профессии.
| 1. Выбор из соображений моды или престижа. 2. Выбор за «компанию». 3. Выбор под влияние интереса к учебному предмету или человеку. 4. Уступка давлению влиятельных людей. |
Задание №2. Игра «Оптимисты и скептики».
Каждая профессия имеет свои плюсы и минусы. Проанализируем профессии, записав в одну колонку их достоинства, а в другую — их недостатки. При работе можно пользоваться Словарем профессий.
Примечание. Это задание ребята могут выполнять индивидуально или в командах у доски, разделенной на две части. Необходимо затронуть следующие вопросы: какое значение имеет эта профессия для общества? Какой труд в ней используется? Имеет ли профессия медицинские противопоказания? Какими качествами должен обладать профессионал? За каждую обоснованную характеристику команда получает один балл. Выигрывает команда, набравшая больше баллов.
Можно распределить любые три профессии по рядам, а «оптимистов» и «скептиков» — по вариантам. Ребята работают самостоятельно в течение 6–8 минут, а затем по очереди называют характеристики. В этом случае ученики, предложившие большее число аргументированных характеристик, поощряются оценкой. В заключение можно обратиться к ребятам с вопросами: «Кто из вас хотел бы выбрать эту профессию? Чем она вас привлекает? Может ли одна и та же характеристика быть для одних людей преимуществом, а для других — недостатком? Изменилось ли ваше представление о профессиях, которые вы анализировали?»
Задание №3. «Круг чтения».
Прочитайте отрывок из рассказа А.Чехова.
| Бездарный ученый, тупица, прослужил 24 года, не сделав ничего хорошего, дав миру десятки таких же бездарных ученых, как он сам. Тайно по ночам он переплетает книги – это его истинное призвание… К нему ходит переплетчик, любитель учености. Тайно по ночам занимается наукой. |
· Что вы можете сказать об этих чеховских героях?
· Счастливы ли они в своей профессиональной деятельности?
· Какой выход они нашли из сложившейся ситуации?
На протяжении всей жизни каждый человек в среднем 4—5 раз меняет профессию. Если этого не делать, может наступить профессиональная деформация — явление, заметное только окружающим. Учитель, у которого потребность учить, давать оценки и всех контролировать становится второй натурой; военный, который даже дома не может избавиться от командного голоса и привычки всех строить; врач, воспринимающий всех людей как своих потенциальных клиентов и мысленно ставящий всем диагноз — все эти люди рискуют остановиться в профессиональном и личностном росте, так как замкнулись на своей профессиональной деятельности.
Какую цену вы готовы заплатить за свой выбор? Чем вы будете за него расплачиваться? Некоторые профессии вредны для здоровья. Есть профессии, несовместимые с семейной и личной жизнью.
Летчики, космонавты, подводники, полярники, пожарные, саперы работают в условиях высокой степени риска.
«Вряд ли сейчас существует профессия, в которой чувство нового так неразрывно переплеталось бы с риском, как в профессии космонавта», — пишет летчик-испытатель Е.В. Хрунов. Участник первой экспедиции на Луну М. Коллинз рассказывал: «В космосе на каждого участника полета ложились нечеловеческие нагрузки — нервные, физические, нравственные. Космос не прощает даже малейших ошибок. А ты рискуешь главным — своей жизнью и жизнью товарищей… Это слишком большое напряжение, от которого не уйдешь и десять лет спустя». (Тарас А.Е. Психология экстремальных ситуаций. М., 2001.)
Есть люди, для которых опасность является жизненной потребностью. Эти люди стремятся к опасности и находят в ней радость и смысл жизни. Многие известные летчики, космонавты, путешественники говорят о своей любви в детстве к подвижным играми, экстремальным видам спорта. Но этого недостаточно. Стрессоустойчивость, способность принимать решения в критических ситуациях, развитая интуиция с опорой на знания и навыки, быстрота реакции, безупречное здоровье, отличная спортивная форма — вот основные требования экстремальных профессий.
Но рисковать можно не только жизнью и здоровьем. По-своему опасны профессии и учителя, и судьи, и врача. Если экстремальные виды деятельности представляют опасность для тела, то эти профессии опасны для души.
Судья вершит судьбы других людей, то есть взваливает на себя нечеловеческую ношу. Из-за его вольной или невольной ошибки могут погибнуть люди. Известны случаи, когда невинно осужденных приговаривали к смертной казни. Выбирая профессию, важно осознавать степень риска и ответственности.
Любой выбор — это самоограничение. Как остроумно заметил У. Джеймс, никто бы из нас не отказался быть сразу красивым, здоровым, прекрасно одетым, великим силачом, богачом, остряком, покорителем женских сердец и в то же время философом, филантропом, государственным деятелем, исследователем Африки и модным поэтом. Но это решительно невозможно.
2. СЮЖЕТ ДЛЯ СМЕШНОГО РАССКАЗА
А. П. Чехов. 90-е годы
Страницы чеховских записных книжек начинают оживать. Слышатся негромкие голоса, реплики, обороты, фразы, характерные словечки, каламбуры. Мелькают движения, жесты, походки, манеры, портреты. Десятки, сотни, новые сотни. Как все это умещалось в одном сознании?
Впрочем, возможно, были среди них и наброски к будущим вещам, которых мы не знаем. Не случайно некоторые из этих заметок Чехов перенес в IV книжку, свод неосуществленных замыслов.
Рассказ или повесть состоят из разных мотивов. Попробуем начать с мотива, который дальше уже «не делится».
Герой мечтает о литературе, ему не удается ею заняться. Наконец ему это удалось, но стал он не писателем, который создает литературу, а тем, кто ее цензурует.
«В людской Роман, развратный в сущности мужик, считает долгом смотреть за нравственностью других» (I, 75, 2).
Такое двойное противоречие и является исходным моментом чеховского образного мышления.
«У бедных просить легче, чем у богатых» (I, 85, 1).
Записи законченно парадоксальны: это горестно-шутливые узлы и узелки противоречий; чеховские микромиры, в которых уже заложено многое, что присуще творчеству писателя в целом.
«Податной инспектор и акцизный, чтобы оправдать себя, что занимают такое место, говорят, хотя его [их?] и не спрашивают: дело интересное, масса работы, живое дело» (I, 92, 12).
У Чехова есть запись: «Сберегательная касса: чиновник, очень хороший человек, презирает кассу, считает ее ненужной,- и, тем не менее, служит» (I, 98, 7).
«Праздновали юбилей скромного человека. Придрались к случаю, чтобы себя показать, похвалить друг друга. И только к концу обеда хватились: юбиляр не был приглашен, забыли» (I, 103, 4).
Болтуны и хвастуны устраивают юбилей скромного человека без самого скромного человека.
Чеховский взгляд на жизнь улавливает нелепость в ее анекдотической возведенности в противоположную степень.
«Он оставил все на добрые дела, чтобы ничего не досталось родственникам и детям, которых он ненавидел» (I, 129, 15).
Существо дела и его форма встречаются, совпадают друг с другом как противоположности. Самое совпадение выглядит издевательским по отношению к существу, потому что лишь усиливает ощущение пропасти между тем, что, казалось бы, совпадает.
Может быть, острее всего выражен принцип двойного противоречия, анекдотического парадокса с предельно точным сведением противоположностей в заметке:
«Г-жа N., торгующая собой, каждому говорит: я люблю тебя за то, что ты не такой, как все» (I, 116, 11).
Вскоре после того как впервые были напечатаны отрывки из записной книжки Чехова, появилась статья Корнея Ивановича Чуковского. Перечитывая ее сегодня, спустя многие десятилетия, ясно видишь: она нисколько не устарела и по праву может быть названа одной из лучших работ о чеховской «лаборатории». Разбирая черновые наброски, заметки, записи, К. Чуковский приходит к такому выводу о «неотвратимом законе в заколдованном чеховском царстве»: «Логика вещей извращается; из каждой причины вытекает неожиданное, противоположное следствие; содержание не соответствует форме У всех этих различнейших образов схема построения одинаковая: каждый образ слагается из двух внутренне-противоречивых частей, взаимно отрицающих друг друга. Главный эффект заключается именно в их полярности. Оттого-то они и скрепляются союзом «но», указующим их несоединимость, несовместимость, абсурдность» (К. Чуковский. Записная книжка Чехова. «Нива», 1915. № 50, стр. 933.
Не просто «унтер-офицерская вдова», но обязательно «сама себя высекла».
Читатель из Кременчуга проявил тонкое понимание чеховского юмора.
Тригорин в «Чайке» записывал мелькнувший «сюжет для небольшого рассказа» (XI, 168). На страницах чеховских записных книжек непрерывно возникают «сюжеты для комического рассказа».
Г. А. Бялый хорошо сказал о юморе молодого, начинающего Чехова: «Речь шла не об обиженных и обидчиках, а об особом облике жизни, не возмущающе страшном или грубо несправедливом, а, так сказать, беспросветно смешном» ( Г. А. Бялый. Заметки о художественной манере А. П. Чехова. «Ученые записки Ленинградского гос. ун-та», № 339, вып. 72. Русская литература. Л., 1968, стр. 131. Вошло в его кн. «Русский реализм конца XIX века». Изд-во Ленинградского гос. ун-та, 1973, стр. 154.).
( И. А. Бунин. Собрание сочинений в 9-ти томах, т. I. M., «Художественная литература», 1965, стр. 308.)
«28/III приходил Толстой» (III, 4, 1).
Чехов в больнице. В дневнике он запишет:
«С 25 марта по 10 апреля лежал в клинике Остроумова, Кровохарканье, В обеих верхушках хрипы, выдох; в правой притупление. 28 марта приходил ко мне Толстой Л. Н.; говорили о бессмертии. » (XII, 336).
А вот что вспоминает А. С. Суворин:
Чехов не верил в личное бессмертие. М. А. Меньшиков вспоминает его слова:
Хорошая ялтинская знакомая Чехова Софья Павловна Бонье пишет:
«Что думал он о смерти?
Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:
Спор Чехова с Толстым о смерти и бессмертии был такой напряженный (несмотря на запреты и протесты врачей, требовавших полного покоя для больного), что на следующий день состояние здоровья Чехова сильно ухудшилось, кровотечение опять усилилось. («После того вечера, когда был Толстой (мы долго разговаривали), в 4 часа утра у меня опять шибко пошла кровь»,- сообщал Чехов Суворину в письме 1 апреля 1897 г. (XVII, 54- 55). «Они долго беседовали,- пишет Мария Павловна,- что брату было запрещено, и у него в ночь опять началось кровотечение» ( М. П. Чехова. Из далекого прошлого. Запись Н. А. Сысоева. М., ГИХЛ, 1960, стр. 166). А. С. Яковлев вспоминает, что, когда он приехал в клинику навестить Чехова, сестра милосердия его предупредила: «Перед Вами приезжал граф Л. Н. Толстой, пробыл у Антона Павловича полчаса, и после этого свидания Чехов очень ослабел» («Литературное наследство», т. 68, «Чехов». М., Изд. АН СССР, 1960, стр. 599).).
И вот в последние дни пребывания в клинике, или, может быть, в самые первые дни после выписки, Чехов заносит в книжку:
«Умер оттого, что боялся холеры» (III, 5, 4). Затем переносит в I книжку, а оттуда позднее, по знакомому нам маршруту,- в IV книжку (IV, 17, 19). Как многие другие, эта запись следовала за автором почти до последних дней жизни.
После всего, что было пережито, передумано, кратчайшая, всего из пяти слов, заметка поражает неожиданной, как будто даже неуместной анекдотичностью, скрытой иронией.
Так велика амплитуда чеховского анекдота. Он выглядит как «сюжет для комического рассказа», но равно принадлежит, смешному и печальному, соединяет смех и трагедию в запутанный, неразвязываемый узел.
Эта особенность чеховского образного мышления, начинающегося с анекдотического противоречия, становится более наглядной, когда мы сопоставляем автора «Смерти чиновника» с другими писателями. И снова по контрасту возникает имя Достоевского.
Рассказ «Скверный анекдот» последовательно и подчеркнуто соотносится с анекдотическим случаем, смешным и «скверным», «злокачественным». Он так и начинается:
«Этот скверный анекдот случился именно в то самое время. » ( Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30-ти томах, т. 5. Л., «Наука», 1973, стр. 5. См. об этом произведении в статье Л. М. Розенблюм «Повести и рассказы Достоевского», в кн.: Ф. М. Достоевский. Повести и рассказы в двух томах. М., ГИХЛ, т. I, 1956.)
Сам генерал, решая осчастливить своим визитом чиновника Пселдонимова, рассуждает:
«Да знаете ли вы, понимаете ли, что Пселдонимов будет детям своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе! Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж (а я всем этим к тому времени буду) удостоил их. и т. д. и т. д.» (стр. 14).
И в конце рассказа, мучительно вспоминая о том, что же произошло на свадьбе, о своем позоре, Иван Ильич Пралинский представляет себе разные картины: «Что скажут о нем, что подумают, как он войдет в канцелярию, какой шепот его будет преследовать целый год, десять лет, всю жизнь. Анекдот его пройдет в потомство» (стр. 43).
«В «Несчастный случай».
Сначала генерал говорил ты Пселдонимову, а потом незаметно съехал на вы.
И, однако ж: «А черт тебя возьми» проглядывало сквозь законченный слой подобострастия, продавившийся на лице его.
Пселдонимов был желчный чиновничек, решившийся примириться и выиграть кусок насущного хлеба.
В записи схвачены существенные мотивы рассказа. Однако в ней нет единой анекдотической конструкции, нет того микромоделирования сюжета во всеохватывающем анекдоте, с чем мы сталкиваемся в записях Чехова.
Прочитайте отрывок из рассказа чехова бездарный ученый тупица прослужил 24 года
Из записных книжек А. Чехова

Ей казался ресторанный воздух отравленным табаком и дыханием мужчин; всех мужчин она считала развратными, способными броситься на нее каждую минуту.
Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой.
Из записок старой собаки:» Люди не едят помоев и костей, которые выбрасывает кухарка. Глупцы!»
Вещать новое и художественное свойственно наивным и чистым, вы же, рутинеры, захватили в руки власть и считаете законным лишь то, что делаете вы, а остальное вы давите.
Одинокие ходят в рестораны и баню, чтобы разговаривать.
Шел по улице такс, и ему было стыдно, что у него кривые лапы.
Наша вселенная, быть может, находится в зубе какого-нибудь чудовища.
Жена воинского начальника распределяет рекрутов; кому, например, не хочется в Польшу, тот платит 5-10 рублей. Торгуется и пьет с клиентами водку. Раз в соборе, пьяная, стала на колени и не могла встать.
Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела.
Прав тот, кто искренен.
А это, рекомендую, мать моих сукиных сынов.
Если кто присасывается к делу, ему чуждому, например, к искусству, то неминуемо становится чиновником. Сколько чиновников около науки, театра, живописи! Тот, кому чужда жизнь, кто не способен к ней, тому ничего не остается, как стать чиновником.
Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически.
Голодная собака верит только в мясо.
— И вот он вышел во всех своих регалиях.
— А какие у него регалии?
— Бронзовая медаль за труды по переписи 97 г.
Воробьихе кажется, что ее воробей не чирикает, а поет очень хорошо.
И от радости, что гости, наконец, уходят, хозяйка сказала: Вы бы еще посидели.
Дедушке дают покушать рыбы, и если он не отравляется и остается жив, то ее ест вся семья.
Человек, у которого колесом вагона отрезало ногу, беспокоился, что в сапоге, надетом на отрезанную ногу, 21 рубль.
Ехать с женой в Париж все равно, что ехать в Тулу со своим самоваром.
Мнение профессора: не Шекспир главное, а примечания к нему.
Здравствуйте вам пожалуйста. Какое вы имеете полное римское право.
Москва с юбилеями, плохим вином, мрачными самолюбиями.
Женятся потому, что обоим деваться некуда.
Молодой человек собрал миллион марок, лег на них и застрелился.
— Человеку нужно только 3 арш. земли.
— Не человеку, а трупу. Человеку нужен весь земной шар.
N: выли не только собаки, но даже лошади.
Учитель: Не следует праздновать столетие Пушкина, он ничего не сделал для церкви.
Девочка с восхищением про свою тетю: она очень красива, красива, как наша собака!
Настоящий мужчина состоит из мужа и чина.
Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай.
Муж и жена любили гостей, потому что без гостей ссорились.
N. угрюмый, мрачный, тяжелый, говорит: я люблю пошутить, всегда шучу.
Почва такая хорошая, что если посадить в землю оглоблю, то через год вырастет тарантас.
Что? писатели? Хочешь, я за полтинник сделаю тебя писателем.
Лучше от дураков погибнуть, чем принять от них похвалу.
Если боитесь одиночества, то не женитесь.
Мне доктор сказывал: ежели, говорит, твоя натура выдержит, пей в свое удовольствие.
Барышню продразнили касторкой и поэтому она не вышла замуж.
Торжок. Заседание думы. О поднятии средств городских. Решение: пригласить папу римского перебраться в Торжок, избрать его резиденцией.
У плохого поэта был стих: как саранча летел он на свиданье.
Любовь? влюблен? Никогда, я коллежский асессор.
Едва сделался ученым, как стал ждать чествования.
Успех уже лизнул этого человека своим языком.
Врача пригласить, а фельдшера позвать.
Паперный З.С.: Записные книжки Чехова
2. Сюжет для смешного рассказа
2. СЮЖЕТ ДЛЯ СМЕШНОГО РАССКАЗА
А. П. Чехов. 90-е годы
Страницы чеховских записных книжек начинают оживать. Слышатся негромкие голоса, реплики, обороты, фразы, характерные словечки, каламбуры. Мелькают движения, жесты, походки, манеры, портреты. Десятки, сотни, новые сотни. Как все это умещалось в одном сознании?
Впрочем, возможно, были среди них и наброски к будущим вещам, которых мы не знаем. Не случайно некоторые из этих заметок Чехов перенес в IV книжку, свод неосуществленных замыслов.
Рассказ или повесть состоят из разных мотивов. Попробуем начать с мотива, который дальше уже «не делится».
Герой мечтает о литературе, ему не удается ею заняться. Наконец ему это удалось, но стал он не писателем, который создает литературу, а тем, кто ее цензурует.
«В людской Роман, развратный в сущности мужик, считает долгом смотреть за нравственностью других» (I, 75, 2).
Такое двойное противоречие и является исходным моментом чеховского образного мышления.
«У бедных просить легче, чем у богатых» (I, 85, 1).
Записи законченно парадоксальны: это горестно-шутливые узлы и узелки противоречий; чеховские микромиры, в которых уже заложено многое, что присуще творчеству писателя в целом.
«Податной инспектор и акцизный, чтобы оправдать себя, что занимают такое место, говорят, хотя его [их?] и не спрашивают: дело интересное, масса работы, живое дело» (I, 92, 12).
У Чехова есть запись: «Сберегательная касса: чиновник, очень хороший человек, презирает кассу, считает ее ненужной,- и, тем не менее, служит» (I, 98, 7).
«Праздновали юбилей скромного человека. Придрались к случаю, чтобы себя показать, похвалить друг друга. И только к концу обеда хватились: юбиляр не был приглашен, забыли» (I, 103, 4).
Болтуны и хвастуны устраивают юбилей скромного человека без самого скромного человека.
Чеховский взгляд на жизнь улавливает нелепость в ее анекдотической возведенности в противоположную степень.
«Он оставил все на добрые дела, чтобы ничего не досталось родственникам и детям, которых он ненавидел» (I, 129, 15).
Существо дела и его форма встречаются, совпадают друг с другом как противоположности. Самое совпадение выглядит издевательским по отношению к существу, потому что лишь усиливает ощущение пропасти между тем, что, казалось бы, совпадает.
Может быть, острее всего выражен принцип двойного противоречия, анекдотического парадокса с предельно точным сведением противоположностей в заметке:
«Г-жа N., торгующая собой, каждому говорит: я люблю тебя за то, что ты не такой, как все» (I, 116, 11).
Вскоре после того как впервые были напечатаны отрывки из записной книжки Чехова, появилась статья Корнея Ивановича Чуковского. Перечитывая ее сегодня, спустя многие десятилетия, ясно видишь: она нисколько не устарела и по праву может быть названа одной из лучших работ о чеховской «лаборатории». Разбирая черновые наброски, заметки, записи, К. Чуковский приходит к такому выводу о «неотвратимом законе в заколдованном чеховском царстве»: «Логика вещей извращается; из каждой причины вытекает неожиданное, противоположное следствие; содержание не соответствует форме У всех этих различнейших образов схема построения одинаковая: каждый образ слагается из двух внутренне-противоречивых частей, взаимно отрицающих друг друга. Главный эффект заключается именно в их полярности. Оттого-то они и скрепляются союзом «но», указующим их несоединимость, несовместимость, абсурдность» (К. Чуковский. Записная книжка Чехова. «Нива», 1915. № 50, стр. 933.
Не просто «унтер-офицерская вдова», но обязательно «сама себя высекла».
Читатель из Кременчуга проявил тонкое понимание чеховского юмора.
Тригорин в «Чайке» записывал мелькнувший «сюжет для небольшого рассказа» (XI, 168). На страницах чеховских записных книжек непрерывно возникают «сюжеты для комического рассказа».
Г. А. Бялый хорошо сказал о юморе молодого, начинающего Чехова: «Речь шла не об обиженных и обидчиках, а об особом облике жизни, не возмущающе страшном или грубо несправедливом, а, так сказать, беспросветно смешном» (Г. А. Бялый. Заметки о художественной манере А. П. Чехова. «Ученые записки Ленинградского гос. ун-та», № 339, вып. 72. Русская литература. Л., 1968, стр. 131. Вошло в его кн. «Русский реализм конца XIX века». Изд-во Ленинградского гос. ун-та, 1973, стр. 154.).
Хрустя по серой гальке, он прошел
Покатый сад, взглянул по водоемам,
Сел на скамью. За новым белым домом
Хребет Яйлы и близок и тяжел.
В груди першит. С шоссе несется пыль,
Горячая, особенно сухая.
Он снял пенсне и думает, перхая:
«Да-с, водевиль. Все прочее есть гиль».
(И. А. Бунин. Собрание сочинений в 9-ти томах, т. I. M., «Художественная литература», 1965, стр. 308.)
«28/III приходил Толстой» (III, 4, 1).
Чехов в больнице. В дневнике он запишет:
«С 25 марта по 10 апреля лежал в клинике Остроумова, Кровохарканье, В обеих верхушках хрипы, выдох; в правой притупление. 28 марта приходил ко мне Толстой Л. Н.; говорили о бессмертии. » (XII, 336).
А вот что вспоминает А. С. Суворин:
Чехов не верил в личное бессмертие. М. А. Меньшиков вспоминает его слова:
Хорошая ялтинская знакомая Чехова Софья Павловна Бонье пишет:
«Что думал он о смерти?
Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:
Спор Чехова с Толстым о смерти и бессмертии был такой напряженный (несмотря на запреты и протесты врачей, требовавших полного покоя для больного), что на следующий день состояние здоровья Чехова сильно ухудшилось, кровотечение опять усилилось. («После того вечера, когда был Толстой (мы долго разговаривали), в 4 часа утра у меня опять шибко пошла кровь»,- сообщал Чехов Суворину в письме 1 апреля 1897 г. (XVII, 54- 55). «Они долго беседовали,- пишет Мария Павловна,- что брату было запрещено, и у него в ночь опять началось кровотечение» (М. П. Чехова. Из далекого прошлого. Запись Н. А. Сысоева. М., ГИХЛ, 1960, стр. 166). А. С. Яковлев вспоминает, что, когда он приехал в клинику навестить Чехова, сестра милосердия его предупредила: «Перед Вами приезжал граф Л. Н. Толстой, пробыл у Антона Павловича полчаса, и после этого свидания Чехов очень ослабел» («Литературное наследство», т. 68, «Чехов». М., Изд. АН СССР, 1960, стр. 599).).
И вот в последние дни пребывания в клинике, или, может быть, в самые первые дни после выписки, Чехов заносит в книжку:
«Умер оттого, что боялся холеры» (III, 5, 4). Затем переносит в I книжку, а оттуда позднее, по знакомому нам маршруту,- в IV книжку (IV, 17, 19). Как многие другие, эта запись следовала за автором почти до последних дней жизни.
После всего, что было пережито, передумано, кратчайшая, всего из пяти слов, заметка поражает неожиданной, как будто даже неуместной анекдотичностью, скрытой иронией.
Так велика амплитуда чеховского анекдота. Он выглядит как «сюжет для комического рассказа», но равно принадлежит, смешному и печальному, соединяет смех и трагедию в запутанный, неразвязываемый узел.
Эта особенность чеховского образного мышления, начинающегося с анекдотического противоречия, становится более наглядной, когда мы сопоставляем автора «Смерти чиновника» с другими писателями. И снова по контрасту возникает имя Достоевского.
Рассказ «Скверный анекдот» последовательно и подчеркнуто соотносится с анекдотическим случаем, смешным и «скверным», «злокачественным». Он так и начинается:
«Этот скверный анекдот случился именно в то самое время. » (Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30-ти томах, т. 5. Л., «Наука», 1973, стр. 5. См. об этом произведении в статье Л. М. Розенблюм «Повести и рассказы Достоевского», в кн.: Ф. М. Достоевский. Повести и рассказы в двух томах. М., ГИХЛ, т. I, 1956.)
Сам генерал, решая осчастливить своим визитом чиновника Пселдонимова, рассуждает:
«Да знаете ли вы, понимаете ли, что Пселдонимов будет детям своим поминать, как сам генерал пировал и даже пил на его свадьбе! Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнейший анекдот, что сановник, государственный муж (а я всем этим к тому времени буду) удостоил их. и т. д. и т. д.» (стр. 14).
И в конце рассказа, мучительно вспоминая о том, что же произошло на свадьбе, о своем позоре, Иван Ильич Пралинский представляет себе разные картины: «Что скажут о нем, что подумают, как он войдет в канцелярию, какой шепот его будет преследовать целый год, десять лет, всю жизнь. Анекдот его пройдет в потомство» (стр. 43).
«В «Несчастный случай».
Сначала генерал говорил ты Пселдонимову, а потом незаметно съехал на вы.
И, однако ж: «А черт тебя возьми» проглядывало сквозь законченный слой подобострастия, продавившийся на лице его.
Пселдонимов был желчный чиновничек, решившийся примириться и выиграть кусок насущного хлеба.
В записи схвачены существенные мотивы рассказа. Однако в ней нет единой анекдотической конструкции, нет того микромоделирования сюжета во всеохватывающем анекдоте, с чем мы сталкиваемся в записях Чехова.