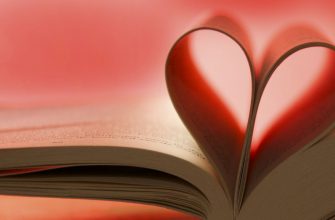Прочитайте шутливый рассказ чернышевского приведите свои примеры богатства русского языка
Н. Г. Чернышевский
. Гибок, богат и при всех своих несовершенствах прекрасен язык каждого народа, умственная жизнь которого достигла высокого развития.
В лингвистическом смысле народ составляют все люди, говорящие одним языком.
БОГАТСТВО И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
Словопроизводство в русском языке, подобно словоизменению, отличается, сравнительно с тою же стороною других новейших европейских языков, гораздо большим разнообразием. Можно даже сказать, что русский язык (подобно [некоторым] другим славянским наречиям) развил в себе много таких способов произведения слов, которые остались мало развитыми в греческом’ и латинском языках, по богатству словопроизводственных способов стоящих несравненно выше новых европейских языков.
В латинском языке довольно много уменьшительных окончаний; но увеличительных (мужичище и т. д.) [почти] решительно нет; несколько отдельных слов в роде virago (-девчище), неправильно образованных, ничего не значат, не составляя отдельного класса; от имен собственных римляне почти не могли производить уменьшительных (слова в роде Teventilla от Terentia и т. д. редки, малоупотребительны и почти лишены уменьшительного значения). В греческом [еще] гораздо меньше, нежели в латинском, уменьшит, нарицат. имен; но зато есть уменьшительные собственные имена, впрочем, довольно малоупотребительные, и едва ли не в одном только пошлом смысле (сравн. употребление женских имен с уменьшит, окончанием, Γνυχρεζον и т. д.). В немецком только одно окончание для уменьшения (слова, принимающие chen, не могут принимать lein, и наоборот). В английском уменьшит, форму принимают только собственные имена; во франц. также, и эта форма бывает в обоих языках почти всегда только одна для каждого имени. У нас этих форм множество.
Надобно сказать, что народный (великорусский) язык превосходит литературный язык в этом отношении; и что народный малорусский еще богаче народного великорусского разнообразием и употребительностью уменьшительных.
Нам кажется, что эти бесконечно разнообразные изменения глаголов посредством видовых окончаний и предлогов с единственною целью определить способ, каким происходит действие, придает русской фразе живость и определенность, которая в большей части случаев не может быть выражена на других языках; и нам кажется, что эта особенность русского словопроизводства еще драгоценнее его способности к образованию уменьшительных и увеличительных имен.
Точно такое же решительное превосходство русского языка над другими европ. языками по богатству и разнообразию словопроизводства найдется и во всех почти других отраслях словопроизводства.
О ЯЗЫКЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
1860. Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии. Сочинение американского писателя Натаниэля Готорна. Соч., т. VII, стр. 452.
1861. О причинах падения Рима. Соч., т. VII, стр. 647.
. Русской публике нравится та манера писать прозой, которой держался Пушкин. Он любил в прозе простоту, чуждался витиеватости.
ПРОТИВ ЛЖЕНАРОДНОСТИ И «САЛОННОГО» ЖАРГОНА
И вот явились «Деревня», «Антон-Горемыка» и т. д. Автор нимало не делал насилия своему таланту, когда писал их: выбор предмета был направлен любовью к поселянам. Автор нимало не щеголял ни своим знанием крестьянского языка, ни тем, что бывал в курных избах; он только верно описывал хорошо знакомый ему быт. Видно было, что он любит поселян, как людей, и сочувствует их интересам. Очень натурально, что повести, написанные с талантом и знанием, оживленные сочувствием автора к изображаемым людям, имели успех. Успех основывался на существенных, неотъемлемых достоинствах произведений.
И принялись удивлять публику своим знанием крестьянского быта и мужицкого языка.
Г. Григорович не забавляет себя и публику набиранием странных слов и странных обычаев (чем ограничиваются другие): в его «Переселенцах» есть живая мысль, есть действительное знание народной жизни и любовь к народу; у него поселяне выводятся не за тем, чтобы исполнять должность диковинных чудаков с неслыханным языком: нет! Они являются, как живые люди, которые возбуждают к себе полное ваше участие. В этом и причина постоянного успеха его повестей и романов из сельского быта.
Подобное положение было у нас при Сумарокове и даже при Карамзине. Некоторые русские отрекались от родного слова для французского языка и презирали русскую литературу, провозглашая, что на мужицком языке нельзя читать книг, а надобно читать на французском.
1861. Национальная бестактность. Соч., т. VII, стр. 788.
У массы русских купцов много пошлых и дурных привычек. Не больше ли, чем у массы великосветских людей, или чиновников, или священников и дьяконов? Я этого не думаю. Ее язык имеет глупую вычурность; да, но и всякий другой сословный язык очень вычурен и глуп, в том числе и великосветский, которым восхищаются и которому по мере возможности подражает масса образованного общества; и язык поселян, превозносимый многими.
Письмо И. И. Барышеву 7 августа 1888 г. Соч., т. XV, стр. 725.
ОБ АРХАИЗМАХ
. Пушкин должен был выработать себе язык, конечно, представлявший очень много затруднений. В самом деле, язык Пушкина чрезвычайно много разнится от языка Жуковского и Карамзина.
Пушкин должен был бороться с приемами, которые были введены в привычку прежними стихотворцами, он должен был отбрасывать множество употребительных в тогдашнее время выражений, которые сами собою подвертывались под перо и между тем уже не годились для его поэзии. Эта борьба с устарелым слогом, уже не существующая для нас, благодаря решительной победе Пушкина, должна была стоить ему многих трудов, потому что, несмотря на все исправления, оставила в его стихах некоторые следы. Теперь никто не будет отрицать, что у Пушкина часто встречаются устарелые и для его времени фразы. Ему было надобно много усилий, чтобы изгонять таких неотвязных гостей.
1855. Сочинения Пушкина. изд. П. В. Анненкова. СПб., 1855. Соч., т II, стр. 469.
При известной степени зрелости и развития общества наступает перемена вкуса и, вместе с тем, эстетического взгляда на искусство, и в литературе начинается борьба между старым и новым направлением
Движение римской поэзии состояло в постепенном ее подчинении греческому влиянию, имевшему следствием обработку языка и художественной формы. Это новое направление считало в век Августа своими представителями Виргилия и Горация. Приверженцы старины не щадили ни того, ни другого нововводи-теля Многие выражения, употребленные Виргилием, называли варварскими, мужицкими. Таким же упрекам подвергался и Гораций. Не были щадимы и писатели, которым обязана усовершенствованием латинская проза. Так, Цицерона упрекали за нововведения в языке и даже называли его аллоброгом, говоря, что он пишет не по-латыни, а на варварском языке. Грамматисты и реторы, занимавшиеся преподаванием стилистики, не считали новых писателей заслуживающими изучения, а классическими авторами признавали одних старинных писателей, в которых восхищались именно тем, что было их величайшим недостатком. Ветхие, вышедшие из употребления слова и обороты превозносились похвалами. Это «литературное староверство» Новые писатели, принужденные нападками, должны были доказывать, что старинные поэты, подражать которым хотели их заставить, не выдерживают эстетической критики; Гораций должен был, в оправдание нововведениям, обнаруживать грубые недостатки Луци-лия, Пакувия и других писателей, чрезмерно прославляемых приверженцами старины. Одним словом, дело происходило совершенно так же, как происходит теперь перед нашими глазами.
. В одном пункте. мнения князя Шаликова и г. Шевырева расходились. Издатель «Дамского журнала» был, как известно, ревностным последователем Карамзина, а г. Шевырев блистательным образом защищал понятия Шишкова. Ученый адмирал и ученый профессор одинаково утверждали, что славянские слова чрезвычайно возвышают и украшают русскую речь. Оба они были непреклонны в борьбе против людей, думавших, что по-русски надобно писать на русском, а не на славянском языке, и приводили в пример нашим поэтам выражение:
Но г. Шевырев шел гораздо далее Шишкова, который хотел только, чтобы в слоге подражали Ломоносову, между тем как для г. Шевырева учителем русского современного языка был Кирилл Туровский, живший за 600 лет до Ломоносова и совершенно чистый от галлицизмов. Г. Шевырев советовал нашим поэтам восстановить употребление местоимения иже, яже, еже и дательного самостоятельного падежа, именно писать таким образом: «волнующемуся морю (то есть при морском волнении, от морского волнения) корабль, иже входил в гавань, подвергался опасности, а лодка, яже была выслана к нему навстречу, потонувшей (когда лодка, высланная к нему навстречу, потонула), гибель стала неизбежна». Желающие могут видеть примеры и доказательства красоты такого слога в «Истории русской словесности» г. Шевырева и в его ответе на разбор этой книги. Шишков, кажется, не предполагал возможности восстановить дательный самостоятельный.
. До сих пор в произведениях искусства господствует мелочная отделка подробностей, цель которой не приведение подробностей в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности; господствует мелочная погоня за эффектностью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расцвечивание не совсем натуральными, но резкими красками лиц и событий.
1854. Об искренности в критике. Соч., т. II, стр. 255.
. Из наших великих писателей в прозе язык самый простой, самый близкий к обыкновенному разговорному (т. е. живому) языку находим у Гоголя Правда, Гоголя упрекают в том, что «у него язык не всегда хорош», но этот упрек делается людьми, требующими мелочной отделки фраз; мы остаемся при убеждении, что язык Гоголя в наше время образцовый русский язык, что лучше Гоголя никто не писал прозою по-русски.
1854. Естественность всех вообще Ломоносовских стоп в русской речи. Соч., т. II, стр. 337.
Вопросы о близком соотношении поэтических созданий к жизни общества не приходили и в голову романтическим сочинителям,- они хлопотали только о том, чтобы изображать бурные страсти и раздирательные положения неистово фразистым языком.
О РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ И ЯЗЫКЕ РАССКАЗЧИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
Прочитал половину «Бэлы». Показалось, что там есть в речах, которые приписываются Азамату и Казбичу, реторика, которой решительно не должно и которая не идет к Максиму Максимовичу, который их пересказывает Это пышное высказывание чувств мне кажется приторным и неверностью; описания Бэлы (кажется) и лошади Казбича не совершенно чисты от этого. Но все же мне понравилось более, чем раньше. Другое дело «Мери»! Это удивительно!
В наше время подсмеиваются над Расином и мадам Дезульер; но едва ли современное искусство далеко ушло от них в отношении простоты и естественности пружин действия и безыскусственной натуральности речей; разделение действующих лиц на героев и злодеев до сих пор может быть прилагаемо к произведениям искусства в патетическом роде; как связно, плавно, красноречиво объясняются эти лица! Монологи и разговоры в современных романах немногим ниже монологов классической трагедии. Вместо живого разговора ведутся искусственные беседы, в которых разговаривающие волею и неволею выказывают свой характер. Следствием всего этого бывает монотонность произведений поэзии: люди все на один лад.
Когда явились первые части «Тамарина» (Варинька и Записки Тамарина), которыми дебютировал г. Авдеев, все в один голос сказали, что это буквальное подражание «Герою нашего времени»
В «Герое нашего времени» две главные повести: «Бэла», рассказываемая простодушным Максимом Максимычем, и «Княжна Мери», дневник Печорина. И у г. Авдеева две повести: «Варинька», рассказываемая Иваном Васильевичем, и «Я, тетрадь из записок Тамарина» Но если Максим Максимыч рассказывает своим языком и действительно своими глазами смотрит на вещи, то Иван Васильич, говоря фразами Максима Максимыча, беспрестанно проговаривается и отдает свой язык в распоряжение Печорина, Тамарина или самого г. Авдеева. Примеров первого не нужно приводить: они составляют фон рассказа; вот примеры второго, эпизодически прорывающегося тона:
Описание на целой странице Джальмы, коня Тамарина; Джальма, чуть проедет несколько шагов, из серого в яблоках «делался розовый: так тонка была у него кожа!» Кому, кроме Печорина, имеющего страсть говорить о лошадях тем тоном, каким говорят о женщинах, придет в голову эта «тонкость»? И действительно, вслед за этим Иван Васильевич принужден делать такое же описание Вариньки, у которой был «тонко схваченный стан» и темноголубые глаза, спокойно смотревшие на божий мир, как будто в нем не было ни горя, «ни длинного ряда заблуждений и обманов, в конце которого часто стоит разочарование и могила». Помилуйте.
Одним словом, если Максим Максимыч умеет рассказывать, как Максим Максимыч, то Иван Васильич умеет рассказывать, как Иван Васильич и г. Авдеев вместе.
..Какая правда в самом рассказе! Как соблюден характер старины и в языке и в понятиях! «Старая барыня» принадлежит к лучшим произведениям талантливого автора, а по художественной отделке эта повесть бесспорно, выше всего, что доселе издано г. Писемским.
О НЕОБХОДИМОСТИ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ ОСОБЕННОСТЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА
Наконец, мы позволяем себе высказать некоторые сомнения относительно удобства для русского языка той версификации, которая господствует со времени Ломоносова. Конечно, мы теперь чрезвычайно привыкли к ней, благодаря отчасти самому Пушкину; тем не менее надобно сказать, что она не так натурально приходится к свойствам нашего языка
Пересмотрев любой стихотворный сборник, мы будем поражены преобладанием ямба над всеми остальными размерами в русской поэзии
Пушкин возвратился к исключительному господству ямба. А между тем кажется, что трехсложные стопы (дактиль, амфибрахий, анапест) и гораздо благозвучнее и допускают большее разнообразие размеров, и, наконец, гораздо естественнее в русском языке, нежели ямб и хорей
. Пушкин первый дал нам прекрасные стихи, писанные на родном языке.
1855. Сочинения Пушкина. Статья третья. Соч., т. II, стр. 507.
И прежде существовали на русском языке хорошие стихи; но когда явились произведения Пушкина, все увидели, что еще не имели понятия о том, как прекрасны могут быть русские стихи. В самом деле, до Пушкина еще никто не писал таким легким и живым языком, в котором соединялись и простота, и поэтическая прелесть; еще никто не умел придавать русскому стиху столько точности, выразительности и красоты. Все эти качества, в которых состоит так называемое «художественное совершенство» пушкинского стиха, очаровали публику и привлекли к чтению тысячи людей, которые прежде не имели привычки читать.
Из этих десяти стихов Пушкину показался не излишним по своей мысли только предпоследний, и весь длинный эпизод, действительно растягивавший монолог бесполезным повторением того, что высказывается в других стихах его, заменен двустишием:
В «Полтаве» он зачеркивает стихи, описывающие страдания влюбленного казака, отвергнутого Марией В «Русалке» уничтожен отрывок из нескольких десятков стихов в сцене свадьбы после упрека дружки девицам за их печальную песню; этот эпизод заключал продолжение упреков и смятения, произведенного появлением утопленницы. Точно так же в начале «Медного всадника» уничтожены длинные размышления Евгения (по возвращении домой в вечер перед наводнением) о том, что он женится на Параше и будет с нею счастлив. Конечно, всякий согласится, что эти стихи без нужды растягивали сцену.
. Г. Анненков справедливо обращает внимание писателей на эту строгость Пушкина к собственным произведениям.
Действительно, большая часть современных повестей, романов заставляет сознаться, что слишком многие беллетристы нуждаются в подобном уроке.
О ЯЗЫКЕ И СЛОГЕ НЕКОТОРЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Барон Брамбеус смешал понятие «язык», который бывает в данную эпоху почти одинаков у всех грамотных писателей, и «слог», то есть особенную манеру каждого писателя Незная различия между языком и слогом, он, по-нашему мнению, совершенно добродушно пришел к заключению, что он первый у нас начал писать превосходным прозаическим языком, о чем для человека, хотя немного понимающего дело и читавшего хотя несколько страниц пушкинской прозы, не могло быть и речи.
1855. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья вторая. Соч., т. III, стр. 56.
. У каждого хорошего писателя бывает свой собственный слог.
1856. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья третья. Соч., т. III, стр. 101.
Слог г. Погодина богат странностями, которые подавали даже повод к забавным пародиям. Но невозможно не признаться, что точность, меткость, оригинальность, непринужденность, сжатость, энергия, совершенная естественность составляют неотъемлемые его качества.
Кстати, о слоге самого г. Шевырева. Ученый критик писал, без сомнения, очень цветисто и патетично; но, к сожалению, слог его вообще растянут и напыщен, а язык неточен и неправилен. Никто из русских журналистов со времени Свиньина, прославившегося дивным слогом своего романа «Якуб Скупалов», не владел языком так дурно, как г. Шевырев. Мы, конечно, не упомянули бы об этом деле, если бы сам г. Шевырев не толковал так много о языке и слоге. Ошибки против языка или логики режут глаза почти в каждой его фразе, потому и не нужно приводить примеров: желающий найдет их десятки в каждой нашей выписке из статей г. Шевырева. На всякий случай, разберем хотя первую фразу в первом из помещенных у нас суждений его о Гоголе. Оно принадлежит еще 1835 году; впоследствии г. Шевырев писал гораздо хуже, и мы нарочно указываем лучшую по слогу из его статей. «Автор «Вечеров Диканьки» (то есть Вечеров на Ди-каньке, или на хуторе близ Диканьки) имеет от природы чудный дар схватывать бессмыслицу в жизни человеческой и обращать ее (жизнь или бессмыслицу?) в неизъясняемую (то есть неизъяснимую) поэзию смеха».
На двух строках две ошибки против языка и одна неточность. Так писал г. Шевырев в «Московском Наблюдателе». В «Москвитянине» он писал еще неправильнее. О напыщенности и натянутости слога мы уж и не говорим.
. Сколько можно судить по началу, в этой драме мы имели бы нечто подобное прекрасным «Сценам из рыцарских времен» Пушкина. Простота языка и мастерство в безыскусственном ведении сцен, уменье живо выставлять характеры и черты быта не изменили Гоголю и в этом случае.
1856. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. СПб., 1856. Соч., т. III, стр. 527.
. Язык, действительно, исхищрен и кудреват до неимоверности, а метафоры неправдоподобно смелы и бесчисленны. Только на этом и мог основываться успех
Вам известно, что я с этим не согласен тяжелый и неуклюжий стих. Тяжестью часто кажется энергия, поэтому говорят, что стих Лермонтова тяжелее стиха Пушкина, что решительно несправедливо Тоже скажу я и о Вас. В чем состоит неуклюжесть Вашего стиха, я решительно не понимаю Вы одарены талантом первоклассным, вроде Пушкина, Лермонтова и Кольцова.
О ЯЗЫКЕ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
. Мы не всегда умеем ценить по достоинству ум детей мы или мучим его затверживанием сухих правил и мертвых слов, смысла которых не объясняем детям, «потому что они еще дети, не поймут они этого», или, когда хотим доставить им приятное чтение, болтаем с ними о таких вещах и таким языком, что умное дитя тотчас же заметит в наших словах приторное ребячество и будет подсмеиваться над этим неловким и скучным ребячеством
1856. Александр Сергеевич Пишкин, его жизнь и сочинения. СПб., 1856. Соч., т. III, стр. 625.
О ЯЗЫКЕ КРИТИЧЕСКИХ РАБОТ
Требования Белинского были очень умеренны, но тверды и последовательны, высказывались с одушевлением, энергически. Нет надобности говорить, что самые резкие суждения могут быть прикрываемы цветистыми фразами. Белинский, человек прямого и решительного характера, пренебрегал этою хитростью. Он писал так, как думал, заботясь только о правде и употребляя именно те слова, которые точнее выражали его мысль. Дурное он прямо называл дурным, не прикрывая своего суждения дипломатическими оговорками и двусмысленными намеками. Потому людям, которым всякое правдивое слово кажется жестким, как бы ни было оно умеренно, мнения Белинского казались резкими: что делать, прямоту считают всегда резкостью.
О ЯЗЫКЕ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
А экономическая наука не такова: в ней нет ни одного вопроса, который не подходил бы к тому или другому разряду житейских забот каждого из нас; в ней нет факта, который не соответствовал бы делам, хорошо знакомым каждому из нас. Потому читатель пусть не предполагает, что не способен каждый профан понять финансовые или бюджетные вопросы так ясно, как только способен понимать счет, поданный ему кухаркою. По напрасной привычке, отвязаться от которой трудно, мы, пожалуй, будем употреблять здесь технические слова «финансовое положение», «бюджет» и т. д., но проще было бы говорить кухонным языком, который был бы совершенно достаточен для изложения всей сущности кредитных дел.
О ЯЗЫКЕ ПЕРЕВОДОВ
1854. О поэзии. Сочинение Аристотеля. Москва, 1854. Соч., т. II, стр. 288.
Нет сомнения, что отрывки «Илиады», являющиеся теперь, возбудят до некоторой степени внимание публики к вопросу о переводе Гомера на русский язык и в особенности о переводах Жуко
Нам кажется, что и славянский или летописный, устарелый элемент в переводе Гомера будет точно также сообщать ему чуждый, фальшивый колорит, как сообщает, по справедливому мнению г. Каткова, простонародное наречие.
ОБ ИЗУЧЕНИИ РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ
Природу сравнивают с книгою, заключающею в себе всю истину, но написанною языком, которому нужно учиться, чтобы понять книгу. Пользуясь этим уподоблением, мы скажем, что очень легко можно выучиться каждому языку настолько, чтобы понимать общий смысл написанных им книг; но очень много и долго нужно учиться ему, чтобы уметь отстранить все сомнения в основательности смысла, какой мы находим в словах книги, уметь объяснить каждое отдельное выражение в ней и написать хорошую грамматику этого языка.
1860. Антропологический принцип в философии. Соч., т. VII, стр. 249.
Радуюсь успехам Саши и в английском языке. Советую ему и Мише стараться о достижении того, чтобы совершенно легко читать книги по крайней мере на трех важнейших языках ученой деятельности: английском, французском и немецком.
Письмо О. С. Чернышевской 14 25 марта 1874 г. Соч., т. XIV, стр. 559.
Если наши дети хотят быть людьми в самом деле образованными, они должны приобретать образование самостоятельными занятиями. И необходимейшею подготовкою для возможности приобретать его должны быть усердные занятия французским, немецким и английским языками.
Письмо О. С. Чернышевской 30 августа 1877 г. Соч., т. XV, стр. 91
Хвалю, что ты стал заниматься немецким языком. Надобно достичь того, чтобы читать по-немецки, по-французски, по-английски так же легко, как на родном языке. Без того нет достаточно широкого фундамента для умственной деятельности. В каждой из трех литератур есть односторонности, которые пополняются только равною интимностью с двумя другими литературами.
Письмо А. Н. Чернышевскому 7 марта 1881 г. Соч., т. XV, стр. 323.
О НАУЧНОМ И УЧЕБНОМ КУРСЕ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ
. Без грамматики никому нельзя обойтись. Трудно ли выучиться ей так, чтоб уметь разбирать части речи, падежи, времена, подлежащее и сказуемое, слова дополнительные и определительные? О, если только в этом, не тупоумного мальчика можно выучить грамматике в две недели.
— А в чем же дело? Чтб же еще нужно знать?
— Как что? Разве вы забыли, что формы русских падежей объясняются только историческою грамматикою, состав предложения, смысл падежей, глагольных форм, частей речи только философскою грамматикою. Итак, нужно знать их.
— Прекрасно; но кому знать? каждому, кто обязан быть не невеждою, или только специалисту?
Вопрос решить очень легко. Нам нужно знать, что в дательном имен, имеющих в именительном а, пишется буква ь. Можно сказать просто, как говаривалось в старых грамматиках: «дательный ставится на вопрос: кому? дать брату> сестра; сестргъ дательный падеж». Это каждый поймет в одну минуту. Чтобы таким способом правильно разбирать падежи, нужно только запомнить их имена, и дело будет кончено. Но неужели можно ограничиться такими скудными и, в строгом ученом смысле, неосновательными сведениями? Нет, нужно основательное знание. Оно дается только сравнительно-историческою филологиею при помощи философской грамматики
Но однако же, возможно ли распространение филологического образования на массу общества? Быть может, филологическое образование может войти в состав общего образования, как некогда входил латинский язык, как ныне входят новейшие языки?
Решить это очень легко. Человек, предназначаемый получить филологическое образование, должен предварительно познакомиться: 1) с славянскими наречиями, именно: старославянским, сербским, хорутанским, чешским, лужицким, польским; 2) с языками: немецким (в его древней форме, так называемом готском языке), латинским, греческим.
Менее этого нельзя знать, а, собственно говоря, должно знать еще несколько других языков и наречий.
Кроме того, он должен основательно изучить древности (мифологии, общественного быта, нравов) немецкие, кельтские, римские, греческие, не говоря уже о славянских.
Без этих приготовительных знаний филологическое образование так же невозможно, как знание дифференциального исчисления без знания алгебры.
Для чего нужно вводить философско-филологическое направление в первоначальное изучение грамматики? Для того, чтобы под формою грамматики учить детей филологии? Но филология такой же специальный предмет, как изучение восточных языков, и если не для чего желать, чтобы все мы выучились говорить по-арабски или по-персидски, то столь же напрасно желать дать всему обществу филологическое образование.
Или филолого-философские тонкости будут благотворною гимнастикою для ума? Но гимнастика должна быть соразмерна силам упражняемого в ней. Нельзя заставлять малютку бегать в латах Орланда или Амадиса Гальского: он падет в них, будет лежать неподвижно. И разве в системе общего образования мало предметов, считаемых превосходною гимнастикою для ума? Таковы все предметы, доступные детскому уму и не лишенные внутреннего смысла.
Годы, посвящаемые человеком ученью, драгоценные годы. Жаль тратить их на мученье ребенка или юноши над бесполезными тонкостями, которых не может он и постичь вполне.
Комментарии
2 ( В дальнейшем Н. Г. Чернышевский отзывался о Григоровиче более отрицательно, особенно при сравнении его произведений с произведениями о народе писателей-демократов 60-х гг. См., например, статью «Не начало ли перемены?» (т. 7, стр. 855).)
3 ( Об архаизмах см. также в статье «Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения» (т. 3, стр. 323) и в статье «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» (т. 4, стр. 56).)
5 ( Это высказывание, хотя и ошибочное по существу, интересно как свидетельство внимания молодого Чернышевского к форме, языку художественного произведения.)
6 ( Первая редакция студенческой работы Н. Г. Чернышевского «О «Бригадире» Фонвизина» была впервые опубликована в собрании сочинений Н. Г. Чернышевского 1906 г., т. X.
Вторая редакция студенческой работы Н. Г. Чернышевского «О «Бригадире» Фонвизина» была впервые опубликована в сборнике «Шестидесятые годы». Изд. АН СССР, 1940.)
7 ( Речь идет о пьесе А. Н. Островского «В чужом пиру похмелье», опубликованной в журн. «Русский вестник», 1856, № 2.)
8 ( Речь идет о пьесе А. Н. Островского «Последняя жертва», опубликованной в журн. «Отечественные записки», 1878, № 1.)
9 ( Речь идет о Н. А. Некрасове.)
10 ( См. также рецензию: «Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований». Соч., Ор. Новицкого (т. 7, стр. 431); письмо О. С. Чернышевской 31 марта, 1878, т. 14, стр. 239.)
11 ( Перевод: «О, как я люблю!» «Увы!» «Ах!» «О, нет!»)
14 ( См. также письмо М. Н. Чернышевскому, 7 марта 1881 г., т. 15, стр. 323.)
16 ( Речь идет об учебнике В. Классовского «Грамматические заметки», который Н. Г. Чернышевский рецензировал в том же 1855 г. (т. 2, стр. 680).)