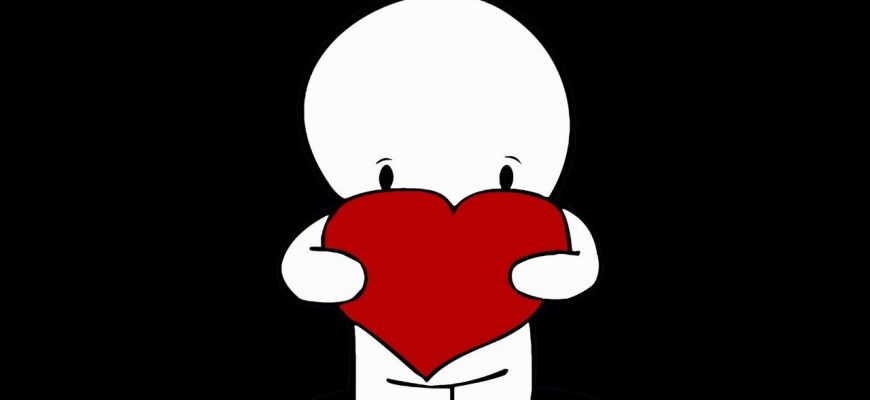Подборка текстов для конкурса `Живая классика` (проза)
У меня в табеле одни пятерки. Только по чистописанию четверка. Из-за клякс. Я прямо не знаю, что делать! У меня всегда с пера соскакивают кляксы. Я уж макаю в чернила только самый кончик пера, а кляксы все равно соскакивают. Просто чудеса какие-то! Один раз я целую страницу написал чисто-чисто, любо-дорого смотреть настоящая пятерочная страница. Утром показал ее Раисе Ивановне, а там на самой середине клякса! Откуда она взялась? Вчера ее не было! Может быть, она с какой-нибудь другой страницы просочилась? Не знаю.
А так у меня одни пятерки. Только по пению тройка. Это вот как получилось. Был у нас урок пения. Сначала мы пели все хором «Во поле березонька стояла». Выходило очень красиво, но Борис Сергеевич все время морщился и кричал:
Тяните гласные, друзья, тяните гласные.
Тогда мы стали тянуть гласные, но Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал:
Настоящий кошачий концерт! Давайте-ка займемся с каждым инди-виду-ально.
Это значит с каждым отдельно.
И Борис Сергеевич вызвал Мишку.
Мишка подошел к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу.
Тогда Борис Сергеевич начал играть, а Мишка тихонечко запел:
Как на тоненький ледок
Выпал беленький снежок.
Ну и смешно же пищал Мишка! Так пищит наш котенок Мурзик. Разве ж так поют! Почти ничего не слышно. Я просто не мог выдержать и рассмеялся.
Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и поглядел на меня.
Он сказал:
Ну-ка, хохотун, выходи!
Я быстро подбежал к роялю.
Ну-с, что вы будете исполнять? вежливо спросил Борис Сергеевич.
Я сказал:
Песня гражданской войны «Веди ж, Буденный, нас смелее в бой».
Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл, но я его сразу остановил:
Играйте, пожалуйста, погромче! сказал я.
Борис Сергеевич сказал:
Тебя не будет слышно.
Но я сказал:
Будет. Еще как!
Борис Сергеевич заиграл, а я набрал побольше воздуха да как запою:
Высоко в небе ясном
Вьется алый стяг.
Мне очень нравится эта песня.
Так и вижу синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами, у них красивые лиловые глаза, а в небе вьется алый стяг.
Тут я даже зажмурился от восторга и закричал что было сил:
Мы мчимся на конях туда,
Где виден враг!
И в битве упоительной.
Я хорошо пел, наверное, даже было слышно на другой улице:
Лавиною стремительной! Мы мчимся вперед. Ура.
Красные всегда побеждают! Отступайте, враги! Даешь.
Я нажал себе кулаками на живот, вышло еще громче, и я чуть не лопнул:
Мы врезалися в Крым!
Тут я остановился, потому что я был весь потный и у меня дрожали колени.
А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи.
Я сказал:
Ну как?
Чудовищно! похвалил Борис Сергеевич.
Хорошая песня, правда? спросил я.
Хорошая, сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза.
Только жаль, что вы очень тихо играли, Борис Сергеевич, сказал я, можно бы еще погромче.
Ладно, я учту, сказал Борис Сергеевич. А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножко по-другому!
Нет, сказал я, я этого не заметил! Да это и не важно. Просто надо было погромче играть.
Ну что ж, сказал Борис Сергеевич, раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока тройку. За прилежание.
Как тройку? Я даже опешил. Как же это может быть? Тройку это очень мало! Мишка тихо пел и то получил пятерку. Я сказал:
Борис Сергеевич, когда я немножко отдохну, я еще громче смогу, вы не думайте. Это я сегодня плохо завтракал. А то я так могу спеть, что тут у всех уши позаложит. Я знаю еще одну песню. Когда я ее дома пою, все соседи прибегают, спрашивают, что случилось.
Это какая же? спросил Борис Сергеевич.
Жалостливая, сказал я и завел:
Я вас любил.
Любовь еще, быть может.
Но Борис Сергеевич поспешно сказал:
Ну хорошо, хорошо, все это мы обсудим в следующий раз.
И тут раздался звонок.
Мама встретила меня в раздевалке. Когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич.
Ну, сказал он, улыбаясь, возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, Менделеевым. Он может стать Суриковым или Кольцовым, я не удивлюсь, если он станет известен стране, как известен товарищ Николай Мамай или какой-нибудь боксер, но в одном могу заверить вас абсолютно твердо: славы Ивана Козловского он не добьется. Никогда!
Мама ужасно покраснела и сказала:
Ну, это мы еще увидим!
А когда мы шли домой, я все думал:
«Неужели Козловский поет громче меня?»
«ОН ЖИВОЙ И СВЕТИТСЯ. «
Автор.
МОЙ ТОВАРИЩ БАБУШКА
Учительница написала на доске тему сочинения: «Твой товарищ».
«А есть ли у меня НАСТОЯЩИЙ товарищ? подумал Андрюша. С кем можно и в горы полезть, и в разведку пойти, и на дно Мирового океана нырнуть. Да и вообще хоть на край света отправиться. »
Андрюша подумал-подумал, потом еще раз подумал-подумал и решил: есть у него такой товарищ! И тут же в тетрадке большими буквами написал:
МОЙ ТОВАРИЩ БАБУШКА
Зовут ее Клавдия Степановна, или просто бабушка Клава. Она родилась давным-давно, а когда выросла, то стала железнодорожницей. Бабушка Клава принимала участие в различных физкультурных парадах. Поэтому она такая смелая и ловкая
Андрюша прочитал сочинение и вздохнул: не понравилось оно ему. Разве можно так скучно про бабушку писать?
«Нельзя», подумал он.
И стал мечтать. О настоящих горах, в которых ни разу не был. Вот бы забраться на самые вершины.
Туда, где вечные ледники не тают.
Где снежная лавина
срывается со скалы.
Где холодно даже в июле
А в небе парят орлы
Там горные тропы опасны.
В ущелье гремит камнепад.
Вот появляются снежные барсы –
в снегу от макушки до пят.
Выходят они на дорогу,
отменный у них аппетит!
И каждый из барсов за ногу
тебя ухватить норовит.
Приблизилась барсов орава.
От страха сползает ремень
Но тут на вершину
вскарабкалась бабушка Клава
проворная, будто олень.
Рюкзак у нее за спиною,
а в нем 28 котлет,
кусок африканского сыра
и даже китайский браслет.
И бабушка барсов кормила
минуты, наверное, две
и трудолюбивой рукою
их гладила по голове.
Насытились снежные барсы
и вежливо так говорят:
«Спасибо Вам, бабушка Клава,
за вкусный и сытный обед. »
А потом почистили зубы и
отправились в логово подремать.
«Вот так бабушка! – подумал Андрюша. – С таким товарищем не то что в горах, но и в разведке ни капельки не страшно»
И тут же представилось ему:
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека
Нет, лучше так:
Ночь. Озеро. Луна. Дубрава. А посредине – овраг. Одним словом, типичная военная обстановка
В разведке чихать не положено!
Вон видишь чернеет овраг?
Скрывается там неприятель –
народа советского враг.
Но бабушка Клава не дрогнет –
такой уж она человек!
(нет, лучше так:
она человек уж такой!)
Поэтому даже не дрогнет,
снимая мешок вещевой.
А в том вещмешке по уставу
положено: 20 котлет,
бутылка топленого масла
и даже трамвайный билет.
Водой омывая полмира,
бурлит океан Мировой.
На дне у него очень сыро
бывает ночною порой.
Вода там и слева, и справа
поэтому нечем дышать
Но славная бабушка Клава
отважно умеет нырять!
А в глубоководной долине
усатый лежит кашалот.
Он думает горькую думу
и косточку тихо грызет:
«А кто это там плавниками
шевелит, как рыба-пила?
Позвольте, да это же сами
да это же бабушка Кла»
От радости у кашалота
дыхание сперло в зобу –
не может он вымолвить слова,
а только бубнит: БУ-БУ-БУ
А бабушка из акваланга
достала 12 котлет,
вишневую банку варенья
и даже ромашек букет.
А кашалот знай себе бубнит: «Спаси-БУ БУ-БУ-шка, спаси-БУ БУ-БУ-шка» и от счастия лишь пузыри разноцветные пускает.
И поднимаются те пузыри на поверхность туда, где край воды. Или край воздуха в общем, настоящий край света. И Анрюша вместе с ними поднимается. Уж ни земли, ни воды, ни воздуха не видно. Сплошное безвоздушное пространство. Космосом оно называется. А Земля где-то далеко тусклым огоньком мерцает. И тает, тает
Растаяла наша планета,
а с нею и наша страна.
Не видно тут белого света,
но бабушка Клава видна!
Она возле звездных окраин,
среди межпланетных миров летает,
как Юрий Гагарин,
а может, как Герман Титов.
В скафандре у бабушки Клавы
припрятано 8 котлет,
кастрюля с куриным бульоном
и даже будильник «Рассвет».
Глядят астрономы Вселенной
на вкусный и сытный обед
в большие свои телескопы
и шлют благодарный привет:
СПАСИБО ВАМ ЗПТ
БАБУШКА КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА ЗПТ
ВАШУ МАТЕРИНСКУЮ ЗАБОТУ
ИМЕНИ МИРОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ТЧК
Гремит всенародная слава –
гремящий разносится звук:
«Да здравствует бабушка Клава,
а также и бабушкин внук!».
И даже созвездия в небе
Весы, Скорпион и Стрелец –
приветствуют бабушку с внуком
На этом закончу:
КОНЕЦ
И вовремя! Потому что как раз звонок прозвенел.
«Эх, жаль, вздохнул Андрюша, урок такой короткий»
Он вспомнил, что у него есть еще одна бабушка. Зовут ее Елена Герасимовна, или просто бабушка Лена. Она тоже родилась давным-давно. И тоже
«Ладно, решил Андрюша. Обязательно напишу о ней в другой раз»
И подписал сочинение: Андрюша ИВАНОВ, внук бабушки Клавы (и бабушки Лены тоже)
Записка имела самый безобидный вид.
В ней по всем джентельменским законам должна была обнаружиться чернильная рожа и дружеское пояснение: «Сидоров – козёл».
Так что Сидоров, не заподозрив худого, мгновенно развернул послание и остолбенел.
Внутри крупным красивым почерком было написано: «Сидоров, я тебя люблю!»
В округлости почерка Сидорову почудилось издевательство. Кто же ему такое написал? Прищурившись, он оглядел класс. Автор записки должен был непременно обнаружить себя. Но главные враги Сидорова на сей раз почему-то не ухмылялись злорадно.(Вот так они обычно ухмылялись. Но на сей раз нет.)
Зато Сидоров сразу заметил, что на него не мигая смотрит Воробьева. Не просто так глядит, а со значением! Сомнений не было: записку писала она. Но тогда выходит, что Воробьева его любит?!
И тут мысль Сидорова зашла в тупик и забилась беспомощно, как муха в стакане. ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТ. Какие последствия это повлечет и как теперь Сидорову быть.
«Будем рассуждать логически, рассуждал Сидоров логически. Что, к примеру, люблю я? Груши! Люблю значит, всегда хочу съесть»
В этот момент Воробьева снова обернулась к нему и кровожадно облизнулась. Сидоров окоченел. Ему бросились в глаза ее давно не стриженные ну да, настоящие когти! Почему-то вспомнилось, как в буфете Воробьева жадно догрызала костлявую куриную ногу
«Нужно взять себя в руки, взял себя в руки Сидоров. (Руки оказались грязными. Но Сидоров игнорировал мелочи.) Я люблю не только груши, но и родителей. Однако не может быть и речи о том, чтобы их съесть. Мама печет сладкие пирожки. Папа часто носит меня на шее. А я их за это люблю»
Тут Воробьева снова обернулась, и Сидоров с тоской подумал, что придется ему теперь день-деньской печь для нее сладкие пирожки и носить ее в школу на шее, чтобы оправдать такую внезапную и безумную любовь. Он пригляделся и обнаружил, что Воробьева не худенькая и носить ее будет, пожалуй, нелегко.
«Еще не все потеряно, не сдавался Сидоров. Я также люблю нашу собаку Бобика. Особенно когда дрессирую его или вывожу гулять»
Тут Сидорову стало душно при одной мысли о том, что Воробьева может заставить его прыгать за каждым пирожком, а потом выведет на прогулку, крепко держа за поводок и не давая уклоняться ни вправо, ни влево
«Люблю кошку Мурку, особенно когда дуешь ей прямо в ухо в отчаянии соображал Сидоров, нет, это не то мух люблю ловить и сажать в стакан но это уж слишком люблю игрушки, которые можно сломать и посмотреть, что внутри»
От последней мысли Сидорову стало нехорошо. Спасение было только в одном. Он торопливо вырвал листок из тетрадки, сжал решительно губы и твердым почерком вывел грозные слова: «Воробьёва, я тебя люблю».
Пусть ей станет страшно.
О. КОШКИН
НАДОЕЛО ВОЕВАТЬ!
Татьяна ПЕТРОСЯН
МАМА, БУДЬ МАМОЙ!
У Юрика не было папы. И однажды он сказал маме:
Вот был бы папа, он бы мне клюшку сделал.
Мама ничего не ответила. Но на следующий день на ее тумбочке появился набор «Юный столяр». Мама что-то пилила, строгала, клеила И однажды вручила Юрику замечательную полированную клюшку.
Хорошая клюшка, вздохнул Юрик. Только папа со мной на футбол бы ходил. На следующий день мама принесла два билета на матч в Лужниках.
Ну что я с тобой пойду, вздохнул Юрик. Ты даже свистнуть не умеешь. Через неделю мама на всех матчах бешено свистела в два пальца и требовала отдать судью на мыло. Тогда как раз начинались трудности с мылом. Но Юрик вздохнул:
Вот был бы папа, он бы меня одной левой поднимал и приемчикам бы учил
На следующий день мама купила штангу и боксерскую грушу. Она добилась отличных спортивных результатов. По утрам поднимала штангу и Юрика одной левой, потом лупила грушу, потом бежала на работу, а вечером ее ждал полуфинал розыгрыша кубка мира. А когда футбола-хоккея не было, мама до глубокой ночи склонялась над радиосхемой с паяльником в руках.
Наступило лето, и Юрик поехал в деревню к бабушке. А мама осталась. На прощанье Юрик вздохнул:
Вот был бы папа, он говорил бы басом, носил тельняшку и трубку курил
Когда Юрик вернулся от бабушки, на вокзале его встречала мама. Только Юрик ее поначалу даже не узнал. Под тельняшкой у мамы вздувались бицепсы, а затылок был коротко острижен. Мозолистой рукой мама вынула изо рта трубку и сказала нежным басом:
Ну, здравствуй, сынок!
Но Юрик только вздохнул:
У папы была бы борода
Ночью Юрик проснулся. В маминой спальне горел свет. Он встал, подошел к двери и увидел маму с помазком в руке. Лицо у нее было усталое. Она мылила себе щеки. Потом взяла бритву и увидела в зеркале Юрика.
Я попробую, сынок, тихо сказала мама. Говорят, если каждый день бриться, борода вырастет.
Но Юрик кинулся к ней и заревел, уткнувшись в мамин жесткий пресс.
Нет, нет всхлипывал он. Не нужно. Стань обратно мамой. У тебя же все равно не вырастит папина. У тебя вырастит мамина бородка!
С той ночи мама забросила штангу. А через месяц пришла домой с каким-то худеньким дядей. Он не курил трубку. И не носил бороду. И уши у него были оттопыренные.
Он расстегнул пальто, под которым вместо тельняшки обнаружилась кошка. Он размотал кашне это был маленький удав. Он снял шляпу там копошилась белая мышь. Он вручил Юрику коробку из-под торта. В ней сидел цыпленок.
Папа! просиял Юрик. И потащил папу в комнату штангу показывать.
Александр ДУДОЛАДОВ
БАЦ И ГОТОВО!
Пусть все останется таким же, а у меня будет испанское имя Педро.
Бах.
Все осталось таким же. И я испанец чернобровый. Улыбка, как фотовспышка.
Привет, Педро!
Улыбка.
Салют, Педро!
Улыбка в ответ. Я ж языка не понимаю. Гость из дружественной страны. Иду, таращу глаза на достижения.
Эх, хорошо быть зарубежным гостем Москвы! Гораздо лучше, чем Ниткиным Эм. Только как это сделать. Тут без волшебной палочки не обойтись.
А пусть я сам буду волшебной палочкой! Такой деревянной, тоненькой. И волшебной!
Бах!
Я волшебная палочка! Приношу пользу людям. Стоит мною взмахнуть, возникает всякая польза.
А что, если стать пользой?
Бац!
И вот я польза! Все мне рады. Все улыбаются. Старики и молодежь. Нет! Бац!
Я улыбка молодежи!
Я хохот! Ха-ха-ха-ха!
Ниткин! Ты где находишься? Почему ты хохочешь на уроке? Ниткин, встань! Какова тема сочинения?
Тема сочинения, Ольга Васильевна, сочинения «Кем я хочу стать, когда вырасту?»
Ну и кем же ты хочешь стать, когда вырастешь?
Я хочу стать хочу стать
Снегирев, не подсказывай Ниткину!
Я хочу стать ученым.
Вот, хорошо. Садись и пиши: ученым.
Ниткин сел и начал выводить в тетради: «Хочу стать котом ученым, чтобы ходить по цепи кругом»
А Ольга Васильевна пошла к столу и тоже стала писать. Отчет для районо: «В третьем «Б» была проведена контрольная работа на тему «Кем я хочу стать». По результатам сочинения сообщаю следующие данные: врачей один, певцов восемь, кооператоров пять, ученых »
Ммя-ууу!
Ниткин! Встань сейчас же! И сними с себя эту глупую цепочку!
Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и Мышиный Король
ЁЛКА Зощенко
Дети с нетерпением ожидали весёлый праздник. И даже в щёлочку двери подглядывали, как мама украшает ёлку.
Сестрёнке Леле было в то время семь лет. Она была бойкая девочка.
Она однажды сказала:
Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, где стоит ёлка, и поглядим, что там делается.
Вот дети вошли в комнату. И видят: очень красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, пастилки и крымские яблочки.
Леля говорит:
Не будем глядеть подарки. А вместо того давай лучше съедим по одной пастилке.
И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну пастилку, висящую на ниточке.
Леля, если ты съела пастилочку, то я тоже сейчас что-нибудь съем.
И Минька подходит к ёлке и откусывает маленький кусочек яблока.
Леля говорит:
Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую пастилку съем и вдобавок возьму себе ещё эту конфетку.
А Леля была такая высокая, долговязая девочка. И она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую пастилку.
А Минька был удивительно маленького роста. И ему почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко.
Если ты, Лелища, съела вторую пастилку, то я ещё раз откушу это яблоко.
И Минька снова взял руками это яблочко и снова его немножко откусил.
Леля говорит:
Если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех.
Минька чуть не заревел. Потому что она могла до всего дотянуться, а он нет.
А я, Лелища, как поставлю к ёлке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока.
И вот он стал своими худенькими ручонками тянуть к ёлке стул. Но стул упал на МИньку. он хотел поднять стул. Но тот снова упал. И прямо на подарки.
Минька, ты, кажется, разбил куклу. Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку.
Тут раздались мамины шаги, и дети убежали в другую комнату.
Вскоре пришли гости. Много детей с их родителями.
И тогда мама зажгла все свечи на ёлке, открыла дверь и сказала:
Все входите.
И все дети вошли в комнату, где стояла ёлка.
Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение.
Дети стали подходить к маме. И она каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, пастилку и конфету и дарила ребёнку.
И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое откусил Минька.
Леля и Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?
Это Минькина работа.
Это меня Лелька научила.
Лелю я поставлю в угол носом, а тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко.
И она взяла паровозик и подарила его одному четырёхлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть.
Минькаа рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:
С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком.
Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.
И та мама удивилась таким словам и сказала:
Наверное, ваш мальчик будет разбойник.
И тогда мама взяла Миньку на ручки и сказала той маме:
Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше не приходите.
Я так и сделаю. С вами водиться что в крапиву садиться.
И тогда ещё одна, третья мама, сказала:
И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы
·ей дарили куклу с обломанной рукой.
И Леля закричала:
Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне останется.
И тогда Минька, сидя на маминых руках, закричал:
Вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся.
И тогда все гости стали уходить. Тут в комнату вошёл папа.
Такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве.
И папа подошёл к ёлке и потушил все свечи.:
Моментально ложитесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям.
И вот прошло с тех пор тридцать пять лет, и до сих пор не забывается эта ёлка.
Война и мир
В Можайске везде стояли и шли войска. Казаки, пешие, конные солдаты, фуры, ящики, пушки виднелись со всех сторон. Пьер торопился скорее ехать вперед, и чем дальше он отъезжал от Москвы и чем глубже погружался в это море войск, тем больше им овладевала тревога беспокойства и не испытанное еще им новое радостное чувство. Это было чувство, подобное тому, которое он испытывал и в Слободском дворце во время приезда государя, – чувство необходимости предпринять что то и пожертвовать чем то. Он испытывал теперь приятное чувство сознания того, что все то, что составляет счастье людей, удобства жизни, богатство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем то С чем, Пьер не мог себе дать отчета, да и ее старался уяснить себе, для кого и для чего он находит особенную прелесть пожертвовать всем. Его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное чувство.
25 го утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной крутой горы, ведущей из города мимо собора, Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался конный полк с песельниками впереди. Навстречу поднимался поезд телег с раненными во вчерашнем деле. Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера.
Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги подле Пьера. Один раненый старый солдат оглянулся на него.
– Что ж, землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы?
Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский, повстречавшийся теперь с поездом раненых полк, то на ту телегу, у которой он стоял и на которой сидели двое раненых.Один был, вероятно, ранен в щеку. Вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась с детскую голову. Рот и нос у него были на сторону. Этот солдат глядел на собор и крестился. Другой, молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившейся доброй улыбкой смотрел на Пьера.Кавалеристы песельники проходили над самой телегой.
– Ах запропала да ежова голова Да на чужой стороне живучи – выделывали они плясовую солдатскую песню. Как бы вторя им, но в другом роде веселья, перебивались в вышине металлические звуки трезвона. Но под откосом, у телеги с ранеными, было сыро, пасмурно и грустно.
Солдат с распухшей щекой сердито глядел на песельников кавалеристов.
– Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят, – сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. – Нынче не разбирают Всем народом навалиться хотят, одью слово – Москва. Один конец сделать хотят. – Несмотря на неясность слов солдата, Пьер понял все то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой.
Дорога расчистилась, и Пьер поехал дальше. Он ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые военные лица, с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак.
Въехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал мужиков ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые что то работали на огромном кургане. Увидав этих мужиков, Пьер вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что всем народом навалиться хотят.
Список прозаических произведений (отрывков), которые можно выучить наизусть для конкурса «Живая классика»
специалист в области арт-терапии
Список прозаических произведений (отрывков), которые можно выучить наизусть для конкурса «Живая классика»
Виктор Драгунский. Рассказы. Например, «Тайное становится явным», «Слава Ивана Козловского», «Куриный бульон», «Бы…» и другие.
Бунин И. А. Рассказы выбираете на свой вкус.
К. Г. Паустовский «Телеграмма».
Виталий Закруткин «Матерь человеческая».
Борис Васильев » А зори здесь тихие».
Л. А. Чарская «Записки маленькой гимназистки».
В. Закруткин «Подсолнух».
А. Г. Алексин «Очень страшная история».
Л. Улицкая «Восковая уточка».
Н. Тэффи «Экзамен» и другие рассказы (только не те, что из программы).
Л. Пантелеев. Буква «ты».
В. Каверин «Два капитана».
М. Шолохов Рассказы.
А. Аверченко. Рассказы.
В.М. Воскобойников «Все будет в порядке».
Ф. Искандер. Рассказы.
Булычев К. «Девочка с земли», «Заповедник сказок», а также и др.
П. Горелик «Семейная реликвия».
Отрывок из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
Совершенно изменился город… Бегут все, торопятся, будто у всех важные и государственные дела.
– Эй, ты, куда бежишь? – негромко через окно кричал Вознесенский какому-нибудь затрепанному чиновнику. А тот, действительно, – всем своим видом показывал:
Ужасно у меня есть важное дело.
И быстро скрывался, особенно, по-деловому, помахивая рукой.
Все торопились, всем было некогда, никто не останавливался у окон, никто не рассматривал белую прекрасную вывеску – И. Л. Вознесенский, а если и заходил в магазин, то говорил:
– А ну-ка, брат Вознесенский, сделай мне вот такие сапоги, да поскорей.
– Гм, – обижался Вознесенский, – можно и поскорей.
Однако делал, как и раньше, не спеша, очень раздумывая, и подолгу глядел в низкое окно.
А днем на улице громко гремели трубы, стройно маршировали солдаты, на тротуарах молодые люди с войны звенели шпорами, ремешками, гремели саблями, вечером под руку гуляли с проститутками, заходили в театры и в рестораны, наверное, за короткую ночь успевали сделать все, что было для них радостного, а утром, а днем, с чемоданами, с корзинами и с мешками, уезжали из города и потом где-то, просто и обыкновенно умирали на колючей проволоке.
Улица изменилась. И теперь днем черные прохожие не гуляли, а ходили быстро, с видом деловым и значительным.
– Бегут, – думал Вознесенский, – не к добру и бегут – что-нибудь да будет.
Еще и война не кончилась, а город снова и чрезвычайно изменился. Целую неделю стреляли из ружей и по улицам бегали какие-то удивительные люди, которых раньше никто и не видел, да и жили они где-нибудь в Устюге, а может быть, и нигде не жили – не босяки и не бродяги, а бывают такие особенные – в рваных ботинках, в широких шляпах и в крылатках и с мрачными лицами.
И женщины в платочках – не простолюдинки, а такие же особенные, пришедшие в город вместе с выстрелами, бунтом и революцией.
Никто теперь никуда не торопился, напротив, подолгу простаивали на углу, и казалось, что никто из них и не вспомнит, что живет на Литейном сапожник Вознесенский.
А потом исчезли, как сгинули, эти особенные в больших шляпах и в платочках, – может быть, переоделись, а может, все попали под выстрелы.
И вот пришло время особенно тяжелое и непонятное. Не настоящая и странная началась жизнь. На улице никто не смеялся и не пел, ходили люди, хоть и торопливо, но не радостно, а как-то по-звериному – с оглядкой да с гримасами. К ночи все прятались по своим темным домам, и улицы были пустые и странные.
Город был похож на осажденную крепость, где доедали последние запасы хлеба и уже страшило безумие неизбежного голода, вздутые животы, солома и молчаливый, таинственный, близкий враг. Скорей бы гремели орудия, скорей бы увидеть кровь, но нельзя же так долго слушать проклятую тишину. Так длился год.
Страшные болезни поражали людей, черные бесшумные кареты увозили куда-то умирающих, прохожие провожали их тупым и мутным взглядом и бормотали невнятное. По улицам все чаще водили босых и бородатых людей, окруженных солдатами с ружьями. Иногда вели хорошо одетых горожан, и тогда больше было солдат с ружьями, тогда громче стучали солдатские сапоги по камням, испуганней смотрели прохожие.
Вечером уныло звонили в церквах, унылые черные женщины шли молиться.
«А-а, значит еще не все погибло. Еще не все отступились от бога», – думал Вознесенский и собирался торопливо в церковь.
Темный и странный был бог у Вознесенского. То казалось, будто это образ Спасителя, что висит в углу, то знакомый и старенький священник отец Петр.
Но об этом не часто он думал и думать не любил, да и в церковь ходил из-за какого-то упрямства.
Простаивал там час и больше на коленях, не молился, а думал о том, что снимают ли теперь фуражки в Кремле у Святых ворот. Или думал про войну и знал, что она окончится через семь лет по святому писанию.
Война! Это значит опять кто-то лезет на колючую проволоку, опять умирают. И странное дело. Все эти хорошо одетые люди с ремешками и шпорами, а может быть, и все люди – не дикари и не разбойники, не хотят никого убивать, однако идут и убивают, безжалостно пронзают животы железными палками и прикладами крошат черепа.
Совершенно трудно, невозможно было понять всей этой нелепой, таинственной жизни, которая будто шла, кривляясь и смеясь, помимо воли людей.
В этом году город, грязный и большой, жил тяжелой, совершенно непонятной жизнью.
Отрывки из Маленького принца
Взрослые очень любят цифры. Читать дальше.
Чехов. О любви (отрывок из рассказа)
Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, — понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простака, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я всё старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.
А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?
И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, — и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.
Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели вкреслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.
В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.
Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:
Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:
— Я так и знала, что вы забудете.
К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.
Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, — о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.
Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались — навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, — оно было пусто, — и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком…
Снял я с себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит». Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец, донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова.
Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подает мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.
Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил врастяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.
Эта маленькая грустная история произошла с товарищем Петюшкой Ящиковым.
Хотя, как сказать — маленькая! Человека чуть не зарезали. На операции.
Оно, конечно, до этого далеко было. Прямо очень даже далеко.
Да и не такой этот Петька, чтобы мог допустить себя свободно зарезать.
Прямо скажем: не такой это человек. Но история все-таки произошла с ним грустная.
Хотя, говоря по совести, ничего такого грустного не происходило.
Просто не рассчитал человек. Не сообразил.
Опять же, на операцию в первый раз явился. Без привычки.
А началась у Петюшки пшенная болезнь.
Верхнее веко у него на правом глазу начало раздувать.
за три года с небольшим раздуло прямо в чернильницу.
Смотался Петя Ящиков в клинику.
Докторша ему попалась молодая, интересная особа.
Докторша эта ему говорила:
— Как хотите. Хотите — можно резать. Хотите — находитесь так.
И некоторые мужчины, не считаясь с общепринятой наружностью,
вполне привыкают видеть перед собой все время этот набалдашник.
Однако, красоты ради, Петюшка решился на операцию.
Тогда велела ему докторша прийти завтра.
Назавтра Петюшка Ящиков хотел было заскочить на операцию сразу после работы.
«Дело это хотя глазное и наружное, и операция, так сказать, не внутренняя,
но пес их знает — как бы не приказали костюм раздеть. Медицина — дело темное.
Не заскочить ли, в самом деле, домой — переснять нижнюю рубаху?»
Побежал Петюшка домой.
Главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке пыль в глаза ей пустить, —
дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато, будьте любезны,
Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть.
Заскочил домой. Надел чистую рубаху. Шею бензином вытер. Ручки под краном
сполоснул. Усики кверху растопырил. И покатился.
— Вот это операционный стол. Вот это ланцет. Вот это ваша пшенная болячка.
Сейчас я вам все это сделаю. Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол.
Петюшка слегка даже растерялся.
«То есть, — думает, — прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное
происшествие. Ой-ёй, — думает, — носочки-то у меня неинтересные. Если не сказать
Начал Петюшка Ящиков все-таки свой китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить
другие нижние недостатки.
— Китель оставьте трогать. Не в гостинице. Снимите только сапоги.
Начал Петюшка хвататься за сапоги, за свои джимми. После говорит:
— Прямо, — говорит, — товарищ докторша, не знал, что с ногами ложиться.
Болезнь глазная, верхняя — не предполагал. Прямо, — говорит, —
докторша — рубашку переменил, а другое, извиняюсь, не трогал. Вы, — говорит, —
на них не обращайте внимания во время операции.
Докторша, утомленная высшим образованием, говорит:
— Ну, валяй скорей. Время дорого.
А сама сквозь зубы хохочет.
Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается.
А могла бы зарезать со своей дрожащей ручкой!
Разве можно так человеческую жизнь подвергать опасности?
Но, между прочим, операция кончилась распрекрасно. И глаз у Петюшки теперь