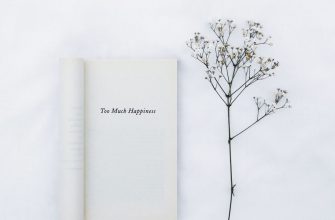Кем җырлады? (Әмирхан Еники)
Ватан сугышының дәһшәтле көннәреннән берсе иде. Көзге караңгы тәндә кечкенә генә җимерек станциядә ике эшелон очрашып, янәшә туктадылар. Боларның берсе тылдан фронтка яңа хәрби часть алып баручы эшелон, икенчесе фронттан тылга яралылар төяп кайтучы санитар поезды иде. Эшелоннар икесе дә, бик озын булып, гел кызыл вагоннардан торалар. Тик санитар поездының гына паровозга якын очында бер-ике классный вагоны бар, ә калганнары исә кечкенә чуен мичләр куеп җылытылган теплушкалар иде.
Бөтен әйләнәдә фронтка якын җирләрдә генә була торган үле тынлык хөкем сөрә. Хәтта эшелоннар башындагы ике кап-кара паровоз да тып-тын тора, әйтерсең казаннарын сүндереп, аларны ташлап киткәннәр. Эшелоннарны томалап куйганнар диярсең, берсеннән-бер көлгән, сөйләшкән тавыш та ишетелми, төшеп-менеп йөрүче дә күренми. Тик араларыннан узганда, туктала биреп колак салсаң, бер яктагы кызыл вагоннардан ара-тирә каты хырылдау, икенче яктагы теплушкалардан авыр ыңгырашу ишетелеп кала. Берәүләр соңгы тапкыр йокы туйдыралар, икенчеләр бер күз йомарга гаҗиз булып яталар, күрәсең.
Шулай үлем тырнагыннан ычкына алмыйча газапланып ята егет. Врачларның өметләре аз, гангренаның никадәр хәтәр нәрсә икәнен алар яхшы беләләр. Бигрәк тә юл шартларында авыруның хәлен җиңеләйтү бик читен эш иде.
Шәфкать туташы моны аңлады, алюмин кружкадан аңа бер йотым су эчерде. Егетнең рәхмәт әйтерлек хәле юк иде, ул бары аз гына җылына төшкән күзләрен туташка күтәреп, кара керфеген генә сирпеп куйды.
. Әллә шул чакта, әллә чак кына соңрак, егетнең колагына каяндыр җыр ишетелде. Татарча җыр. Егет, өне катып, тынып калды. Нәрсә ишетә ул, кемне ишетә? Йа Хода, аның Таһирәсе җырлый түгелме соң? Шул ич, шул, Таһирә тавышы! Кайда ул. Егет, үзен белештермичә, яткан җиреннән кинәт бер омтылып куйды. Шунда ук аның күз аллары караңгыланып китте, башы хәлсезләнеп, мендәр читенә авып төште. Шәфкать туташы, куркынып, тизрәк аның кулын алды, пульсын капшады. Әмма егет һушыннан язмады, дөресрәге, һичнәрсәне, һичкемне сизмәс булса да, җырны ишетүдән туктамады. Яңадан бөтен дөньясы эссе томанга йотылса да, җыр. җыр калды.
Ә бу җыр чынлыкта бар иде, ул янәшәдәге эшелонның бер вагоныннан килә иде. Әгәр теплушка белән кызыл вагонның ишекләре бер-берсенә капма-каршы туры килгән булсалар, ишек яңагына сөялеп, кулларын шинель җиңнәренә тыгып җырлап торучы кыз, ихтимал, үзе дә күренгән булыр иде. Ләкин теплушканың аз гына ачык ишегеннән ут яктысы кыздан читкәрәк, кызыл стенага тар гына сары юл булып төшкән иде.
Күзгә күренмичә, берничә адымда гына җырлап торган кыз ялгызы гына булса кирәк, чөнки бүтән беркемнең дә тавышы-мазар ишетелми иде. Ихтимал, ул төнге дежурда торадыр, шунлыктан, ахрысы, иптәшләренең татлы йокысын бозарга теләмәгәндәй, ничектер тыелып, әкренрәк җырларга тырыша кебек. Әмма аның иркен, матур, аз гына калынрак күкрәк тавышы төнге тирән тынлыкта бик ачык булып ишетелә иде.
Кыз, үзенең ниндидер яраткан көен эзлиме, бер җырны башлый да, бетермичә икенчесенә күчә, бераз җырлагач, туктап тынып тора, аннан тагын акрын гына башлап китә. Үзенә күбрәк ошаган кайбер көйләрне озаграк та җырлап куя, әмма ул кем дә булса мине ишетәдер дигән уйны күңеленә дә китерми иде, әлбәттә.
. Һәм вагон стенасына ышкылып кына яуган вак яңгыр аша әкрен-ачык ишетелгән җыр, күктән иңгән ак канатлы фәрештәдәй, егетне ут эчендә яткан җиреннән сак кына күтәреп, каядыр еракка, татлы хыял дөньясына алып менеп китте. Аның хәтта тәне, һавада йөзгәндәй, җиңеләеп калды, акылы ничектер бердән яктырып китте, сизгерлеге искиткеч үткенләште. Җырны инде ул хәзер моң итеп кенә ишетмичә, гаҗәеп ачык сурәтләр тезмәсе итеп тә күрә иде.
. Менә кыз әкрен генә башлап, аннан тавышын күтәрә төшеп, сузып кына җырлый:
Сарман буйлары, ай, киң ялан,
Печәннәре җитәр бер заман шул,
Печәннәре җитәр бер заман.
Һәм егетнең күз алдына үтә ачык булып, әллә кайларга кадәр җәелеп яткан чуп-чуар чәчәкле болын килә. Үлән башларын, чәчәкләрне селкетеп, йомшак кына җил исә, имеш. Каяндыр, тургай сайрауларына кушылып, чалгы янаган тавышлар ишетелә кебек, йомшак җил кибеп яткан покосларның хуш исен китерә кебек, тик егет печән чабучылар ягына нигәдер борылып карый алмый, имеш. Ул да булмый, аның күз алдына бормаланып киткән тар гына болын юлы килә. Хәтта бер мәлгә егет үзе дә ике рәт үлән арасындагы тәгәрмәч эзеннән, җылы туфракка яланаяк баса-баса, китеп бара кебек, ә каршысына киез эшләпә кигән, таяк таянган ак сакаллы бер бабай килә кебек.
Күпмедер вакыт узгач, кызның тагын моңлы җыры ишетелә:
Кояш бата, айлар калка, Бик ямансу шул чакта.
Һәм егетнең күз алдына үзләренең шәһәрдәге кечкенә өйләре килеп баса. Эңгер-меңгер вакыты, имеш. Өйдә әнисе ялгызы гына икән. Менә ул, ак яулык бәйләгән кечкенә карчык, ут кабызып, бисмилласын әйтә-әйтә, тәрәзә пәрдәләрен төшереп йөри, тәрәзә төбендәге гөлләрнең кипкән яфракларын чүпләп-чүпләп ала, имеш. Өстәлдә яңа гына кайнап чыккан самавыр тора икән. Әнисе аның институттан кайтканын шулай чәй әзерләп көтә, имеш.
Шул чакта кыз, тирән бер сагыш белән:
Инде кемнәргә карармын
Һәм егет ике куллап Таһирәсенең башын күкрәгенә кыса, имеш, йөзен аның күперенке чәчләренә куя, имеш, иреннәрен аның җылы, йомшак муенына тидерә, имеш:
«Бәгырем, бәгырем, күз нурым! Нигә алай дисең, нигә елыйсың? Без мәңге, мәңге бергә ич!»
Һәм кыз, башын аның күкрәгеннән алмыйча, назланып, зарын әйтә кебек:
Сагынам үзем, юлда күзем,
Саргайды нурлы йөзем.
Юк, юк, бүтән аерылу юк. Инде без бергә, дустым, мәңге бергә. Менә алар җитәкләшеп, ашыга-ашыга, Идел тавына менәләр, имеш. Тау бик биек икән, туктап-туктап тын алалар, кулларын җибәрмичә, сүзсез генә бер-берсе-нең күзләренә карап, бәхетле елмаялар, тагын кузгалып китәләр. Ниһаять, менеп җитәләр, йа Хода, нинди киңлек, нинди киңлек, нинди чиксез нур һәм ямь дөньясы бу туган җир! Шундый җиңел, шундый рәхәт ал арга! Менә алар, тотынышкан хәлдә кулларын киң җәеп, таудан күтәреләләр һәм пар аккоштай елгалар, кырлар, урманнар өстеннән шул чиксез нур дөньясына очалар, очалар.
Поезд китте, ялгыз кабер торып калды.
Кинәт җил исте, биек нарат, эре яңгыр тамчыларын җиргә коеп, салмак кына башын чайкады. Күктәге салынкы соры болытлар, кемгәдер юл ачкандай, икегә аерылдылар. Шунда ук зәңгәр ачыклыктан, бәхилләшергә соңга калгандай, ашыгып кояш карады. Нарат төбендәге кабер өсте, әйтерсең егетнең җирдә калган, үлмәгән һәм мәңге үлмәячәк якты хыяллары белән кинәт нурланып балкыды.
Караңгы төндә каршы очраган эшелонның вагон ишегенә сөялеп, ялгызы гына моңаеп җырлаган кыз исә чыннан да бу егетнең сөйгәне Таһирә иде.
Рассказ амирхана еники кто пел перевод
Невысказанное завещание: рассказы, повесть
Издание подготовлено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 17-14-16004 а(р)
Составление, аналитические статьи доктора филологических наук В. Р. Аминевой
Научный редактор – доктор филологических наук, профессор, академик Д. Ф. Загидуллина
доктор филологических наук, старший научный сотрудник Отдела литератур народов РФ и СНГ Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН А. Т. Сибгатуллина;
кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
«Есть у человека дорогая ему родная земля!»[1]
(О жизни и творчестве А. Еники)
Амирхан Еники – псевдоним выдающегося татарского писателя Амирхана Нигметзяновича Еникеева. В автобиографической книге «Соңгы китап» («Последняя книга», 1986) писатель воссоздаёт свою родословную и замечает: «Барлык рәсми документларда минем тулы фамилиям «Еникеев» дип языла. Тик язучы буларак кына мин аны, безнең әдәбиятта күптәнге гадәт буенча, «Еники» дип кыскартып йөртәм» [Еники, 2000, 4: 6]. «Во всех документах фамилия моя значится как Еникеев. Лишь став писателем, как издавна водится у нас в литературе, переделал её в Еники»[2] [Еникеев, 1998: 4]. И. А. Абдуллин, исследуя историю старинного татарского рода Кулунчаковых, устанавливает генеалогическое родство А. Еники и А. И. Куприна: «Гади кешеләрнең эчке дөньясын нечкә лиризм, салмак тел белән сурәтли алу куәсенә бер үк дәрәҗәдә ия булган рус язучысы Александр Куприн белән татар әдибе Әмирхан Еники шулай итеп йомышлы татар князь Еникинең ерак оныклары булып чыгалар» [Абдуллин]. «Таким образом, русский и татарский писатели Александр Куприн и Амирхан Еники, творчеству которых в равной степени присущ талант изображения внутреннего мира простого человека (тонкий лиризм, неторопливый стиль), оказываются потомками выходца из сословия служилых татар князя Еники»[3].
Прослеживая историю своего духовно-нравственного формирования, писатель вспоминает те события и обстоятельства своей жизни, которые сыграли важную роль в этом процессе. Так, на всю жизнь в его памяти запечатлелась картина, как дед, преклонив колена, совершал намаз в густой цветущей траве: «Ә бабакай, атын тугарып үләнгә җибәргәч, бераз читкә китеп, чирәмгә кара җиләнен җәйде дә намаз укырга кереште. Башта аягүрә, аннары тезләнеп укыды. Тирә-ягы куе үлән, шау чәчәк, менә шул үлән-чәчәкләр эченнән бабакайның нечкә муены белән кырпу бүреге генә күренә. Якты һавада күзгә күренмәс әлеге кечкенә кошчык талпына-талпына һаман өзелеп-өзелеп сайрый, үләндә йөргән җирән алаша да әледән-әле башын селкеп, тимер авызлыгын чыңлатып куя, ә без әбекәй белән бер читтә, нидер көткәндәй, тын гына басып торабыз. Ниндидер бик якты бер эз калдырды ул минем бала күңелемдә. Бәлки, шул мизгелдә мин әйләнәмдәге сихри дөньяны ачыграк күрә, тирәнрәк тоя башлаганмындыр…» [Еники, 2000, 4: 29]. «Молился сперва стоя, после опустился на колени. В густой траве, усеянной цветами, мелькала лишь отороченная мехом шапка на тонкой шее бабакая[4]. А та, едва видимая птичка всё пела и пела в залитом светом небе, всё также самозабвенно и страстно; рыжий мерин, гуляющий в траве, встряхивал время от времени головой и звенел железными удилами, а мы с эбекей[5] тихо стояли в сторонке, будто ожидая чего-то. Видение оставило в детской моей душе какой-то светлый загадочный след. А что если в тот самый миг во мне произошло волшебное перерождение: восприятие окружающего мира обострилось, и красота глубоко навсегда вошла в душу?» [Еникеев, 1998: 25].
Писатель на протяжении всех своих автобиографических записок признаётся в любви к родным местам – к деревне Каргалы, где он родился, и особенно – к Давлекану, где прошли его детские и юношеские годы: «Ләкин бит мин Дәүләкәнгә туган-үскән туфрагым дип кайтам. Барысыннан элек миңа аның халкы якын һәм кадерле булырга тиештер бит инде. Җире-суы, кырлары-яланнары, тугайлары-күлләре, ниһаять, бормаланып аккан Димкәе кадерле булырга тиеш… Яшьлегем хатирәләре белән бәйләнгән урамнары, йортлары, мәктәп, клуб кебек урыннары миңа аеруча якын, тансык булырга тиеш түгелме соң. Нәрсә калган шуларның барсыннан. Каршыда мәһабәт Ярыш тавы басып тора, якты Дим салмак кына ага, тугайда күлләр җәйрәп ята, кайткан саен, мин аларга текә яр башыннан сокланып һәм уйланып карап торам, янә тагын Дим өстендә, хәтта ялгызым гына булса да, көймәдә йөрмичә калмыйм. Ләкин табигать үзе, никадәр генә бай, гүзәл булмасын, кешегә карата салкын, битараф бит ул – аның өчен синең кайтуың да, китүең дә барыбер түгелмени?! Кеше кайта аңа, кеше сагына аны, чөнки кешенең үткәне шушында калган, шушында саклана… Минем өчен дә ул шулай, мин дә, кайтып, Дим ярына басу белән, гүя үткәнемә күчәм, үткәнемне күрәм» [Еники, 2000, 4: 114]. «Но ведь я приезжаю в Даулякан оттого, что вырос здесь, оттого, что здесь моя родина. Меня, казалось бы, прежде всего должны притягивать сюда люди, дорогие сердцу поля и пастбища, озёра и, наконец, милый мой Дим[6], причудливо извивающийся в лугах. Улицы, дома, связанные с воспоминаниями юности, – такие как школа, клуб, должны быть особенно дороги, особенно близки… И что от них осталось. Напротив стоит величавая гора Ярыш, светлый Дим плавно катит свои волны, в лугах сверкают озёра – всякий раз, приезжая сюда, я с любовью смотрю на них с высокого берега, погружённый в свои размышления, и не могу уехать, не покатавшись в лодке. Но природа, как бы она ни была хороша и богата, сама по себе холодна и равнодушна к человеку – ей абсолютно всё равно, приехал ты или уехал! Человек стремится к ней, тоскует, потому что прошлое человека осталось здесь, здесь хранится… Вот и я, оказавшись на берегу Дима, как бы перехожу в другое измерение – перед мысленным моим взором возрождаются картины прошлого» [Еникеев, 1998: 105]. С чувством родины автор «Последней книги» связывает формирование основ своего мировоззрения.
В рассказе-воспоминании «Җиз кыңгырау» («Медный колокольчик»), в котором нашли отражение личные впечатления А. Еники от поездки на свадьбу родственницы родного брата отца, чувство родины раскрывается как органическая связь человека с природой, имеющая эмоционально-инстинктивную основу: «Күңелгә кинәт нур тулды, күзгә хәтта сөенеч яшьләре килде, һәм шул чакта табигатьнең кешегә газиз ана кочагыдай никадәр якын-кадерле булуын, кешенең аңа мең төрле җепләр белән бәйләнгән булуын, алай гына да түгел, кешенең бөтен хыялы-өмете, эше-гамәле шушы җылы, якты, тере сулышлы табигатьтән яралган булуын ихтыярсыз аңладым, тойдым, белдем шикелле…» [Еники, 2000, 1: 268]. «На душе стало легко и радостно, словно я почувствовал тепло нежного объятия матери. И вдруг я понял, невольно осознал, что природа для нас – та же мать и что мы связаны с ней тысячью нитей. Разве наши мечты и желания, дела и помыслы, словом, вся наша жизнь была бы возможна без щедрой, неистощимой на тепло и красоту природы, без животворного дыхания её. » [Еникеев, 1974: 45]. В хикая[7] «Туган туфрак» («Родная земля») любовь к родной земле изображается как непосредственное, жизненное чувство, охватывающее всё существо человека: «Беренче тапкыр, бик табигый рәвештә, туган җиренә, туган халкына, телдән генә сөйләнә торган түгел, ә кан тамырында йөри торган чын якынлык-мәхәббәт хис итте ул…» [Еники, 2000, 1: 165]. «В первый раз, совершенно естественно, она почувствовала к родной земле, родному народу истинную любовь, которая выражается не в словах, а растекается по всей кровеносной системе»[8].
На кого же посмотрю я завтра, в грусти забывшись тоскою
Литературный перевод рассказа Амирхана Еники
Вокруг ни одного здания-все разрушено. Поэтому землянка, сложенная из нескольких рядов бревен, засыпанных землей, выглядит особенно одиноко, горбатясь на безлюдном поле безымянным надгробьем.
На всей станции хоть бы один огонек затеплился – темнота холодным безмолвием наполнила мёртвую тишину. Лишь кровавое зарево, струящееся из-за горизонта и залившее всю кромку неба, плавит небосвод. Но это не восход – это война. Земля, вокруг вспаханная фронтом, была живой, пышущей всеми оттенками черного. По ней струилась еще не совсем мертвая, разбавленная тишина. Тихий храп из одного состава вплетался в неё, делая живой, который перекликался с тяжёлыми стонами, доносящимися из другого. Видно, кто-то не может сомкнуть глаз от страданий, а кто-то высыпается в последний раз.
После остановки на этой станции парень в очередной раз на миг вернулся из небытия, открыл воспалённые глаза и в мутно-желтоватом свете едва различил медсестру Она хранила молчание, вызванное чувством вины за свое бессилие. Войне не удалось заглушить ее человеческие чувства: она страдала за лейтенанта, не могла равнодушно смотреть на его муки.
Потемневшие, высохшие губы бессильно разомкнулись, силясь что-то вымолвить: парня мучила жажда. Медсестра сразу поняла это и осторожным движением смочила его губы водою из алюминиевой кружки. У него уже не осталось сил поблагодарить, он только поднял на неё чуть потемневший взгляд, моргнул ресницами.
И в этот момент его слуха коснулась едва слышимая песня. Татарская песня!. Паренек, затаив дыхание, замер. Что слышит он?! О боже! Не его ли Тахира поет?! Ведь она, она. Это ее голос, мягкий и нежный. Где она?! Парень тут же быстро и легко забылся. Перед глазами потемнело, и обессилевшая голова упала на угол подушки. Испугавшись, медсестра быстро коснулась его руки, поймала слабый пульс. Он был в сознании и, никого и ничего не чувствуя, слышал только песню. Всё тонуло в горячем тумане. А песня песня продолжалась.
Песня была на самом деле. Она доносилась из вагона напротив. Если бы двери двух поездов оказались рядом, можно было бы увидеть девушку, прижавшуюся к дверному косяку и пытающуюся согреть руки в рукавах шинели. Но небольшой клочок света из приоткрытой вагонной двери узился жёлтой полоской на противоположной красной стенке подальше от девушки. Она была невидима глазу, находясь всего в нескольких шагах; лишь её голос, красивый и чистый, доносился из ночной тишины. Вероятно, она была на ночном дежурстве и хотела хоть как-то отвлечься пением, но пела тихо, боясь разбудить спящих товарищей. Несмотря на это, её достаточно сильный грудной голос ясно чередовал каждое слово, с необыкновенной точностью сохраняя саму мелодию. И казался очень нежным.
Она пыталась найти какую-то свою, любимую мелодию: одну начинает, не докончив, переходит к другой и, задумавшись о чем-то, замолкает; но мысленно все же продолжает петь. Через некоторое время напев возобновляется, но уже по-новому. Мягкий голос на фоне шелеста капель дождя несет что-то далекое и родное, будто хочет успокоить каждого, услышавшего его
Различив в тишине удивительно знакомый голос близкого человека, парень внутренне содрогнулся, и в нём что-то изменилось. Ещё не совсем погасшее сознание не позволяло поверить в присутствие Тахиры. Его не интересовало, кто поет, только пусть песня будет, не кончается Татарская песня, песня любимой, песня родимых мест! Ах, разве может быть что-нибудь дороже и милее этого?!
Слышимая через стенку вагона сквозь шелест капель дождя, отчетливо тихая песня стала чем-то живым. Она уносила его ввысь, к белым, влажным облакам, заставляла забыть обо всем, дарила спокойствие и даже радость! Свежую, яркую радость Перед глазами разлились цвета. Они медленно скользили и перемешивались, мягко поблескивали теплым светом.
Вот девушка, тихо начав, затем чуть повысив голос, растягивая, запела. И парня ясно видится раскинувшееся сколько глазом можно охватить поле пестреющее разнотравьем. Мягкий ветерок покачивает верхушку трав, макушки цветов. Откуда-то, присоединившись к шелесту листьев, слышится звук натачиваемой косы. Теплый ветер доносит приятный запах подсыхающих на покосе трав. Только почему-то парень не может оглянуться, и косари остаются скрытыми от его взора; видна тропинка, совсем узенькая, играющая контрастом с необъятными просторами нивы. Порывы ветра вздымают крупицы теплой, дорожной пыли, сообщая полотнам жнивья потоки движения, создавая волны, перебирающие всю гладь простора колосьев и ласкающие каждый колосок отдельно. Волны сталкиваются и исчезают за горизонтом. Парень как будто шагает по следам тележных колес, босиком ступая по теплой земле, а навстречу, опираясь на палку, идёт седобородый старик
Через некоторое время вновь послышался печальный голос девушки:
Солнце вновь закатилось,
Звезды всплыли волною.
Очень грустно мне стало.
И встает перед глазами их маленький городской дом. Будто вечер близится сумерками, в доме одна только мать. Вот она, повязанная белым платком, зажигает свет, беспрестанно читает молитву, не отрывая глаз от окна. На столе только что вскипевший самовар. Она готовится к чаю, ожидая его возвращения из института.
— Мама! Мама моя. – выговаривает парень с внутренним рыданием, и из его закрытых глаз стекают горячие слезы, медленно скатываются капельками серебра и опускаются на высохшие губы.
Медсестра, наклонившись, кладет ему на лоб свою руку, спрашивает его о чём-то, но парню всё же кажется, что с ним говорит его родная Тахира.
В это время девушка с глубоким вздохом произносит:
На кого же посмотрю я завтра,
В грусти забывшись тоскою.
И парень обеими руками прижимает к груди её голову, будто задевая её легкие пряди волос, губами касается её хрупкой шеи.
Милая! Любимая моя! Почему ты так говоришь, почему плачешь? Мы же вместе навек!
Девушка, не убирая головы с его груди, будто признается:
Сама тоскую, глаза на дороге.
Поблекла красота ярких красок лица.
Нет! Нет! Нет больше расставания! Теперь мы вместе, подруга моя, вместе навсегда!
И они, обнявшись, не торопясь, поднимаются на гору возле Волги. Гора очень высокая, и они останавливаются, чтобы перевести дух; не разжимая рук, без слов, глядя друг другу в глаза, счастливо улыбаются и продолжают свой путь.
Наконец поднялись. О боже! Какая ширь! Какая безграничная красота эта родная земля! Так легко, так хорошо им!.
Вот они, прижавшись друг к другу, раскрывшись всему окружающему, всему прекрасному, отрываются от земли, отрываются от реальности, проникая в нее, растворяясь в ней. Теперь они – полотна трав, мнущиеся под лёгким ветерком; степь, цветущая дневным спокойствием; одинокий лесок за горою; изгиб реки; высящийся над ним утес; луч солнца, скользящий по водной глади; бескрайнее небо с плывущими по небу облаками. Они – пара лебедей, летящих над колышущимися полями, над одиноким лесом, под бескрайним небом
Парень не почувствовал, как тронулся эшелон напротив, как девушка перестала петь. Он уже не смог прийти в сознание
На другой день поезд остановился у такого же разбитого разъезда. Из красного вагона, вынесли тело парня и похоронили недалеко от дороги, на возвышенности, под одинокой сосной. Затем на бугорок земли воткнули прибитый медными гвоздями фанерный щит, на котором чёрной краской было написано имя, фамилия, год рождения и смерти. Люди, обнажив головы, молча постояли над могилой и одновременно разошлись по вагонам.
Поезд ушёл – одинокая могила осталась Неожиданно подул ветер; высокая сосна, пролив на землю крупные капли дождя, плавно качнула головою. Нависшие чёрные тучи на мутном небе, будто открывая кому-то дорогу, расплылись, обнажив небесную синь. И в то же время оттуда, будто опоздав попрощаться, поспешно выглянуло солнце.
Показалось, что светлый облик юноши с грустной и спокойной улыбкой явственно поднялся из могилы, слегка коснувшись сосновых ветвей, и с лучами струящегося света взмыл в бесконечную высь.
В ту темную ночь, прислонившись к двери вагона, стояла Тахира. Она думала о своем любимом.
Идейно – художественный анализ рассказа Амирхана Еники
Творчество татарского писателя Амирхана Еники отличается самобытностью. Первые рассказы он начинал писать в период войны, и ни один из них нельзя назвать «пробой пера», подготовкой к большому творчеству. Он сразу же стал известен как зрелый художник.
Главное для автора, раскрывая душевно-психологическое состояние героев в неожиданных непредсказуемых ситуациях, показать, какие богатые чувства, неведомые самому человеку, живут в нём, и почему они пробуждаются.
При чтении его рассказов выявляются много глубоких, содержательных мыслей, которые, переходя из одного произведения в другое, объединяются в одно целое, определяя философскую основу его творчества.
В рассказе «Кто пел?» бесчеловечные законы войны, благодаря удивительному дару писателя, всё это показанные в психологическом ключе, обретают романтические окраски. Всем своим существом чувствуешь пульсирующую родственную любовь автора к своим героям, с прототипами которых он сам встречался на войне.
Развитие действия в рассказе происходит в тесном взаимодействии природы с героями. Это создает органически живой эмоциональный настрой: «Там, вдалеке за горизонтом, всполохи пожаров, тяжело дышащая земля; здесь, на станции, мертвая ночная осенняя тишина». Угрожающая атмосфера отрицает возможность любой радости. Но песня оказалась тем спасительным лучом, который возродил в умирающем любовь к жизни. Теперь у него в подсознании возник свой мир. И он для него стал реальнее того, который его окружает: он живет в нем, среди родных мест, наполненных бесконечно счастливой жизнью.
«О боже! Какая ширь! Какая безграничная красота ( эта родная земля!»
И в финале рассказа природа, как заботливая мать, принимающая сына в свои объятья.
Одна из излюбленных тем в произведениях Амирхана Еники – притягательная сила народной песни. В рассказе «Кто пел?» песня явилась кульминацией в развитии действия. Она, рождённая тоской любви, помогает герою ощутить новые стороны своей души. «Мягкий голос на фоне шелеста капель дождя несёт что-то далёкое и родное, будто хочет успокоить каждого, услышавшего его.
Кто бы ни пел, лишь бы песня продолжалась. Ах, что может быть милее и дороже её?!»
Автор обнаруживает незримые нити между песней и душевным состоянием героев, окрашенных в их национальные цвета. Так, в песне девушки возникают картины просторов Сармановского края сенокосной поры, ощущение безмятежного счастья от этой милой сердцу природы, от радостного труда. В другой песне щемящая сердце тоска по любимому ассоциируется с закатом солнца; рождением ночи, пышущей звездным небом.
В ответе на печаль девушки экспрессия молодого человека выражается повтором эмоционально насыщенных слов: «Душа моя! Душа моя! Почему, почему ты плачешь? Никогда, никогда больше не расстанемся!»
Песня полна любимыми, дорогими с детства образами, которые поочерёдно меняются. Навеянные песней образы поочередно меняются Вот перед ним ожил образ матери, а затем появился седобородый старик, мудрый взгляд которого наполняет его бодростью.
Песня выражает ту духовность бытия, которую невозможно передать словами, которая порождает у героя незнакомые до этого времени мысли. Она явилась источником душевных сил. Стоит рассмотреть два антитезных состояния умирающего лейтенанта: до того, как он услышал песню, и после. В первом случае физические мучения смешиваются с обреченностью. Потом же, испытывая сладостные воспоминания о матери, мгновения счастья с любимой и безграничную радость умиротворения, он сближается с прекрасным миром. И все это подарила ему песня, родная татарская песня!
Я умереть хочу весной
С возвратом радостного мая,
Когда весь мир передо мной
Воскреснет вновь, благоухая.
На всё, что в жизни я люблю,
Взглянув тогда с улыбкой ясной,-
И назову её прекрасной.
Прочитав рассказ, невольно начинаешь философски его осмысливать. Добро и зло по закону диалектики, взаимодействуя, противостоят друг другу. В чём суть этих явлений? Какова их природа в человеческом обществе? Ответы на них мы находим и в произведениях великих русских писателей. Например, Ф. М. Достоевский был убежден, что духовной красоты можно достичь путем самопожертвования. Л. Н. Толстой развил эту мысль дальше: через стремление к добру человек уничтожает в себе зло. У Амирхана Еники основой добра, его источником, является любовь. В рассказе «Кто пел?» песня, как символ любви, пробудила в угасающем сознании лейтенанта радостное чувство. И от него отступила жестокая реальность, его охватило безграничное счастье бытия. Эта мысль передается в композиции рассказа такой символической художественной деталью: облик матери появляется в тот момент, когда герой рождается для новой жизни.