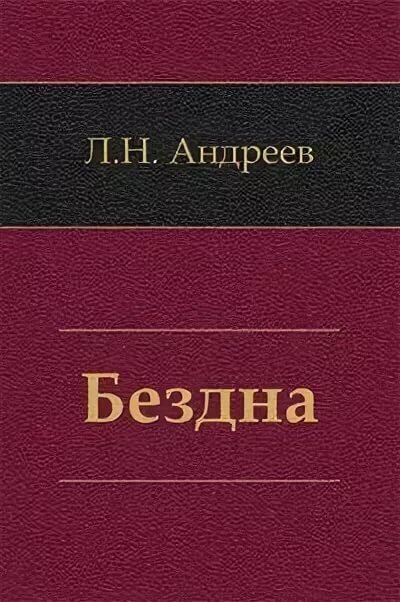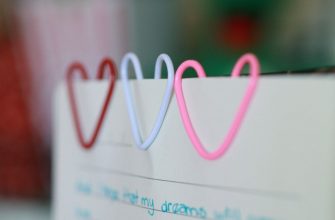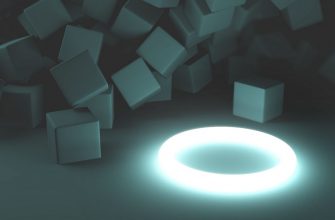1902 ru glassy FB Tools, FB Editor v2.0 2005-09-21 http://www.leonidandreev.ru/ E84BB72B-1528-47DD-90C7-6D9BB83ED2EB 1.1 1998
Леонид Николаевич Андреев
И то, что впереди стало темно, не прервало и не изменило их разговора. Такой же ясный, задушевный и тихий, он лился спокойным потоком и был все об одном: о силе, красоте и бессмертии любви. Оба они были очень молоды: девушке было всего семнадцать лет, Немовецкому на четыре года больше, и оба они были в ученической форме: она в скромном коричневом платье гимназистки, он в красивой форме студента-технолога. И как и речь, все у них было молодое, красивое и чистое: стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему, легкая упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах звучавшие задумчивой нежностью, так, как звенит ручей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей.
Они шли, сворачивали там, где сворачивала незнакомая дорога, и две длинные, постепенно утончающиеся тени, смешные от маленьких головок, то раздельно двигались впереди, то сбоку сливались в одну узкую и длинную, как тень тополя, полосу. Но они не видели теней и говорили, и, говоря, он не сводил глаз с ее красивого лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих нежных красок, а она смотрела вниз, на тропинку, отталкивала зонтиком маленькие камешки и следила, как из-под темного платья равномерно выдвигался то один, то другой острый кончик маленькой ботинки.
Дорогу пересекла канава с пыльными, обвалившимися от ходьбы краями, и они на миг остановились. Зиночка подняла голову, обвела вокруг затуманенным взглядом и спросила:
— Вы знаете, где мы? Я здесь ни разу не была.
Он внимательно оглядел местность.
— Да, знаю. Там, за этим бугром, город. Давайте руку, я вам помогу.
Он протянул руку, нерабочую руку, тонкую и белую, как у женщины. Зиночке было весело, ей хотелось перепрыгнуть канаву самой, побежать, крикнуть: «Догоняйте!» — но она сдержалась, слегка, с важной благодарностью наклонила голову и немного боязливо протянула руку, сохранившую еще нежную припухлость детской руки. А ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался, с полупоклоном, почтительно принял ее и скромно отвернулся, когда у всходившей девушки слегка приоткрылась нога.
И снова они шли и говорили, но головы их были полны ощущением на минуту сблизившихся рук. Она еще чувствовала сухой жар его ладони и крепких пальцев; ей было приятно и немного совестно, а он ощущал покорную мягкость ее крохотной ручки и видел черный силуэт ноги и маленькую туфлю, наивно и нежно обнимавшую ее. И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении узкой полоски белых юбок и стройной ноги, и несознаваемым усилием воли он потушил его. И тогда ему стало весело, и сердцу его было так широко и свободно в груди, что захотелось петь, тянуться руками к небу и крикнуть: «Бегите, я буду вас догонять», — эту древнюю формулу первобытной любви среди лесов и гремящих водопадов.
И от всех этих желаний к горлу подступали слезы.
Длинные, смешные тени исчезали, и дорожная пыль стала серой и холодной, но они не заметили этого и говорили. Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь, носились перед их глазами. В памяти воскресали отрывки неведомо когда прочитанных стихов, в одежду звучной гармонии и сладкой грусти облекавших любовь.
— Вы не помните, откуда это? — спрашивал Немовецкий, припоминая: — «…и со мною снова та, кого люблю,[1] — от которой скрыл я, не сказав ни слова, всю тоску, всю нежность, всю любовь мою…»
— Нет, — ответила Зиночка и задумчиво повторила:
«Всю тоску, всю нежность, всю любовь мою…»
— Всю любовь мою, — невольным эхом откликнулся Немовецкий.
И снова они вспоминали. Вспоминали чистых, как белые лилии, девушек, надевавших черную монашескую одежду, одиноко тоскующих в парке, засыпанном осенней листвой, счастливых в своем несчастье; они вспоминали и мужчин, гордых, энергичных, но страдающих и просящих о любви и чутком женском сострадании. Печальны были вызванные образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно-красивым вырастала она перед их глазами, и не было ничего могущественнее ее и краше.
— Вы могли бы умереть за того, кого любите? — спросила Зиночка, смотря на свою полудетскую руку.
— Да, мог бы, — решительно ответил Немовецкий, открыто и искренно глядя на нее. — А вы?
— Да, и я, — она задумалась. — Ведь это такое счастье: умереть за любимого человека. Мне очень хотелось бы.
Их глаза встретились, ясные, спокойные, и что-то хорошее послали друг другу, и губы улыбнулись. Зиночка остановилась.
«Бездна» Леонид Андреев
Я давно являюсь поклонницей творчества Андреева. А с тех пор, как прочитала «Красный смех», поняла окончательно, что этот автор теперь в числе моих любимчиков.
Рассказ «Бездна» покорил меня с первых строк: сначала изумительным языком автора, затем — постепенно нагнетающей атмосферой. К финалу моё тело покрылось мурашками, ладони стали влажными, сердце билось неравномерно, а сон как рукой сняло (читала на ночь).
Началась история довольно спокойно. Двое молодых людей — 17-летняя Зиночка и 21-летний студент Немовецкий — гуляли, наслаждаясь обществом друг друга. Ближе к вечеру они немного заплутали. Чтобы попасть в город коротким путём, им необходимо было пройти через поле и небольшой лесок.
«И тьма сгущалась так незаметно и вкрадчиво, что трудно было в нее поверить, и казалось, что все ещё это день, но день тяжело больной и тихо умирающий.»
Андреев меня удивил. Думаю, для тех времён довольно смелый сюжет. Если честно, я до последнего момента не ожидала такой развязки.
Автор показал, как легко любой человек может окунуться в свою бездну. Ты её не замечаешь, игнорируешь, но в определенных обстоятельствах она приблизится к тебе на расстоянии вытянутой руки. И в момент, когда уже невозможно будет отвернуться, ты должен будешь сделать свой выбор: либо остаться на поверхности, либо погрузиться во тьму с головой.
Дубликаты не найдены
Книжная лига
11.3K поста 54.7K подписчиков
Правила сообщества
Мы не тоталитаристы, здесь всегда рады новым людям и обсуждениям, где соблюдаются нормы приличия и взаимоуважения.
При создании поста обязательно ставьте следующие теги:
«Ищу книгу» — если хотите найти информацию об интересующей вас книге. Если вы нашли желаемую книгу, пропишите в названии поста [Найдено], а в самом посте укажите ссылку на комментарий с ответом или укажите название книги. Это будет полезно и интересно тем, кого также заинтересовала книга;
«Посоветуйте книгу» — пикабушники с удовольствием порекомендуют вам отличные произведения известных и не очень писателей;
«Самиздат» — на ваш страх и риск можете выложить свою книгу или рассказ, но не пробы пера, а законченные произведения. Для конкретной критики советуем лучше публиковаться в тематическом сообществе «Авторские истории».
Частое несоблюдение правил может в завлечь вас в игнор-лист сообщества, будьте осторожны.
Очень нравится его «Кусака» и другие рассказы. Душевный надрыв, рухнувшие надежды. очень мрачный писатель. Но хороший)
Да, «Кусаку» помню ещё по школе.
Немного иные эмоции испытывала при прочтении, не страх.
О, здравствуйте, коллега. Тоже один из моих любимых писателей. И один из близких по духу.
Здравствуйте) Да, мне тоже близок по духу.
Кстати, «Бездна» был первым произведением Андреева. Мне его как раз посоветовали, потому что посоветовавший человек посчитал, что в моем тогдашнем творчестве много схожих ноток с этим рассказом. В то время его и в магазинах было не достать, это год 2006-2008. А сейчас просто книги из разряда «забрать с собой при пожаре».
Если это так, то с удовольствием прочитала бы ваши творения)
Как с вами можно связаться?
Вот, можете написать здесь
Дневник Сатаны читал пару раз, рекомендую
Но не буду спорить: есть такой возраст и такое состояние души, когда оно заходит на «ура»
Не знаю, какой должен быть возраст, но вот в душе у меня всегда будет местечко для творчества Андреева
Я не пытался угадать. Каждый декадентствует по-своему.
Лариса | Анна Пашкова
Лариса спала плохо и беспокойно — да и назовёшь ли это сном? На маленькой тахте, накрытой то ли простынёй, то ли тонкой тряпицей, женщина полусидела-полулежала на подушках в предчувствии, что скоро придётся открыть глаза. Первым просыпался маленький Антошка.
«Баба», — звал он сначала тихо, потом требовательно. Лариса поднималась, пытаясь нащупать тапки в темноте, находила одну и хромала до деревянной кроватки, вынимала внука, прижимала его, полусонного, тёплого и тяжёлого, к груди. Она любила эти минуты. Весь дом ещё спал. В соседней комнате нервно ворочался муж. Он работал допоздна, утром уходил в университет читать лекции. Муж злился, когда его отвлекали. Заглядывая в его комнату, Лариса отмечала, что он всё ещё красив. Высокий, седой, он нравился всем, даже своим студенткам. В нём были именно те благородство и красота дореволюционного учителя, о которых Лариса читала в книгах. Давно, когда сама была его студенткой. О красоте мужа она думала с гордостью. Лариса подходила с Антошкой к длинному зеркалу в коридоре. «Купить бы новый халат», — она разглядывала с ног до головы усталую женщину, которую иногда даже не узнавала. Лариса была младше мужа на восемнадцать лет. Выглядели они ровесниками.
Пасынок Митенька вставал позже всех. Молча завтракал, отвозил жену на работу. Ольга иногда помогала Ларисе, но чаще была недовольна её работой. Антошка не слушался, капризничал, бабушка его баловала и совсем не воспитывала. Лариса не знала, как это делать: её саму воспитывал муж с тех пор, как она появилась в этой квартире с высокими потолками, через год после смерти Митиной мамы — мальчику тогда было два года. Она чувствовала себя вторым ребёнком — и не всегда старшим. В детстве Митя её любил и даже звал играть на равных. С отцом он ничем не делился, и Лариса гордилась тем, что у них есть общие тайны.
Когда Мите было восемь лет, она подобрала крошечного таксика. «Малыш, — подумала Лариса, — я назову его так». Малышу кто-то связал жилетку и вывел в ней на мороз. Щенок увязался за Ларисой и бежал, высунув язык, до самого дома. «Что с тобой делать? — вздохнула она и подняла его на руки. Лариса знала, что Миша будет против, и всё-таки храбрилась. — Кто я тут? Гостья или полноправная хозяйка? Я живу в этом доме шесть лет. Митя обрадуется…».
Митя обрадовался. Размечтался, как будет гулять с Малышом на поводке, возьмёт его летом на дачу. «Можно он будет спать со мной?» — попросил сын. Лариса, поколебавшись, ответила, что лучше бы устроить щенка на подстилке в коридоре. Она тоже воображала радостные картины летних прогулок с Митей и Малышом. «Завтра надо будет свозить его к ветеринару, купить ошейник», — решила Лариса.
Миша вернулся вечером, Малыш прибежал к порогу встречать. Он успел освоиться в новом доме и радостно носился за Митей, оглашая весь дом хриплым лаем.
— Что это? — спросил Миша.
Лариса вдруг почувствовала, что снова сидит у него на экзамене.
— Мы с Митей подобрали собачку, Малыш совсем замёрз, — улыбнулась она, зачем-то записав к себе в сообщники Митеньку.
— Чтобы завтра его тут не было. Никаких собак в моём доме.
Митя плакал всю ночь. Лариса лежала рядом, Малыш свернулся у них в ногах.
— Мы его отвезём в приют, к другим собачкам, ему там будет хорошо! Тут у него нет друзей… — она сама не верила своему радостному голосу. — А хочешь, завтра не пойдём в школу?
На следующий день Митя не пошёл в школу. Малыш был в той же жилеточке, Лариса прижимала его к себе, укрывая от холода шарфом. Щенок уткнулся тёплым носом ей в шею, лизнул её и тихонько забил хвостом.
Они ехали на метро через весь город. За железными воротами стоял ряд вольеров, из каждого блестели несколько пар чёрных глаз. Железные миски ещё не остыли от овсяной каши, которую разносил собакам на завтрак мальчик чуть старше Мити. Когда дверь вольера закрылась, Малыш завыл. Они слышали его вой до самой автобусной остановки. В тот день Митя съел свой первый гамбургер и выпил первую газировку. Они не сказали об этом папе.
Иллюстрация Ксюши Хариной
Так на общих секретах зародилась их дружба, они копились один за другим. Отец не знал про Митин первый поцелуй и первую сигарету, и что сын не собирался после школы учиться на врача. Даже Олю Митя привёл знакомиться с родителями, когда отца не было дома. Случайно или нарочно.
Чем больше Лариса сближалась с Митей, тем сильнее отдалялась от Миши, словно ничего у них не было. Ни прогулок по университетскому парку. Ни того дождя, когда рассеянный красивый профессор отдал ей свой пиджак, как будто не заметив, что она в плаще и дождевике, а у него только тонкая рубашка.
Лариса не знала, разочарован ли он, что у них так и не появилось общих детей или, наоборот, рад, что Мите досталась вся её любовь? Благодарен ли ей, что она не стала защищать кандидатскую, чтобы не получить хорошую должность в их университете? Догадывался ли, что работу она всё-таки дописала и убрала в стол, потому что видела, как Миша нахмурился, когда читал первые страницы? Это значило, что ему понравилось — а тех, кто ему нравился, он никогда не любил…
Решение о том, что с Антошкой будет сидеть именно Лариса, приняли негласно. Оля заявила, что с осени выходит на работу. Митя и Миша промолчали.
И муж, и сын, и невестка были высокими, черноволосыми, с аристократичными тонкими чертами лица. Белокурый, с пухлыми румяными щёчками и ручками в перетяжках Антошка больше напоминал Ларису на детских фотографиях. Он словно был её, Ларисиным, ребёнком.
— Признавайся, ты бабушкин! Ба-буш-кин! — шутила она.
И Антоша заливался смехом, тянул к ней ручки, обвивал её шею и осыпал поцелуями. Ольга была права: бабушка его баловала, но иначе она не могла.
Единственным Ларисиным увлечением были походы к врачам. Миша называл это «турне». У Ларисы болело то справа, то слева. Или даже не болело, а покалывало. Порой она натыкалась на медицинскую статью в журнале и находила у себя все симптомы. Лариса и сама уже не могла понять, где у неё болит, поэтому привыкла ориентироваться на мнение Миши.
— Миша, если колет где-то в районе лопатки, стоит сходить к врачу? Или, может, просто неудобный стул?
— Сходи к врачу, — советовал Миша, не отрываясь от газеты.
Тогда она шла в маленькую частную клинику у дома. Администратор её уже знала, Лариса боялась, как «ту сумасшедшую старуху». Встречали её всегда приветливо, но разговаривали, как с маленькой: «Сейчас мы нашу Ларису Николаевну проводим к Алексею Евгеньевичу, и Алексей Евгеньевич скажет, что попить…»
Лариса стыдилась признаться себе, что её подкупали настойчивая забота, ласковые голоса, добрые руки, которые брали её и сами вели, а не требовали, чтобы она вдруг выросла и шла, принимая самостоятельные решения и совершая какие-то поступки.
Да, ей нравилась эта доброта, она платила за нее, тем более что даром никто с ней приветлив не был. С мстительной решимостью Лариса искала очередной повод обратиться за помощью. У неё чесалась рука и ныло в плече, слезились глаза и стучало в висках. Ей хотелось крикнуть за ужином: «Вам всем всё равно, но есть те, кому не плевать! Я буду ходить к ним снова и снова. Смейтесь сколько влезет, я всё равно пойду».
Вскоре кто-то начинал беспокоиться по-настоящему, и ей становилось стыдно. Особенно тяжело это воспринимал Антошка.
— Ну что ты, милый! Просто бабушка уже старенькая.
— Старенькая, да удаленькая! — цедила Ольга.
С Антошкой они ходили гулять в лес. Лариса уставала, потому что полдороги несла его на руках. Он часто останавливался, рассматривал камушки и листочки. Она вспоминала, что Митя тоже любил остановиться и поговорить с муравьями. Лариса даже хотела купить ему муравьиную ферму, но Миша не разрешил.
— Не плачь, муравьишка! — приговаривал маленький Митя. — Ты вырастешь, и у тебя будет колечко. Ты подаришь его невесте, у вас будет свадьба…
Он помнил свадьбу папы с Ларисой. Праздновали скромно: Миша позвал только своих друзей, её друзей пригласить было неловко, ведь они тоже были его студентами. Мама Ларисы, хоть тогда и была ещё жива, не поехала. Слишком долго и далеко, к тому же Миша не слишком её уговаривал. Митю оставили дома с няней, он плакал и просился со всеми. Митя только проснулся и стоял босичком в коридоре, без штанишек, когда все уезжали. С горшком в руках.
— Возьмём его, Миша? — попросила Лариса.
Миша пожал плечами:
— Ему и надеть нечего. Будет капризничать.
И Митя остался дома. После свадьбы Миша представил Ларису уже официально: «Теперь это — твоя мама», — но Митя звал её Лариса, как папа, хотя родную маму не помнил. По неопытности, стараясь понравиться Мите, Лариса однажды купила ему большое ведёрко мороженого. И Митя слёг! Он никогда не болел так сильно, даже Миша заволновался, накричал на Ларису.
Митя лежал с грелкой на лбу. Перед глазами у него всё плыло. Лариса стояла, вжав голову в плечи, и нервно ковыряла заусенцы на ногтях.
— Ты теперь должна заботиться о ребёнке, а не валяться с книжками. Если хотела учиться — надо было учиться, а не прыгать в постель!
Митя не понимал, почему нельзя прыгать в постель, если там так тепло и мягко. Он хотел позвать Ларису, но болело горло, а имя было слишком сложным. И, когда папа ушёл, он прохрипел: «Мама… мама».
Лариса вздрогнула. Она не сразу поняла, что обращаются к ней. Лариса подошла к мальчику и погладила его по голове, поцеловала лоб, чтобы проверить температуру.
— Я никогда раньше не ел мороженое, мама, — тихо сказал Митя.
Он часто защищал Ларису от отца. Миша всё больше отдалялся от них, уходил в комнату, хлопнув дверью, зарывался в свои дела, важные и большие. Совсем не такие, какие были у Мити с мамой.
Папа писал научную работу, а они гуляли по лесу и смотрели на муравьёв. Лариса однажды поймала ему большого жука-бронзовку, и тот целую неделю жил в коробочке! Митя старался не болеть, чтобы не подводить маму, и сильно волновался, если всё-таки заболевал. Если папа приходил, а он лежал в постели, Митя первым делом старался убедить его: «Я сам! Я прыгал по лужам и сапоги протекли».
— А я давно говорил тебе купить ему новые сапоги, — замечал муж Ларисе.
Теперь она гуляла с Антошкой, Митиным сыном, но то и дело останавливалась, потому что у неё кололо в боку. Она шла с трудом и присаживалась отдохнуть каждые пять минут. Антошка ждал любимую «бабу».
— Расскажи ещё про муравьёв! — умолял он.
И Лариса придумывала невероятные истории о муравьиных царствах, о колониях-захватчиках и муравьиных принцессах. Она вспоминала, что когда-то хорошо писала, и преподавательница по русской литературе просила её не бросать учёбу, но Лариса думала об этом без сожаления. Эти события казались ей такими же невероятными и далёкими, как муравьиные войны, о которых ей приходилось рассказывать Антошке.
В тот вечер они вернулись позже обычного. Ольга уже разогревала ужин, который Лариса приготовила перед прогулкой. Они сели за стол, Митя рассеянно потрепал по голове сына, Антошка принялся болтать о том, как много интересного они с бабой видели в лесу.
— Ничего, скоро у тебя будет ещё больше интересного. Мы переедем в большой город. Ты хочешь жить в большом городе? Где есть зоопарк и огромные машины?
— Да, да! — обрадовался Антошка.
— Митю приглашают работать в Петербург, — Ольга повернулась к Мише. — Пока вот думаем, нам с Антоном ехать сейчас или с осени — ему в следующем году в детский сад.
— Езжайте сейчас, — сказал Митя. — Что я там буду делать один? Да и мать летом отдохнёт немного, освободится.
— Антошка уезжает? — переспросила Лариса.
Глаза у неё наполнились слезами. Ещё сильнее закололо в боку.
— А баба поедет с нами? — заволновался Антошка.
— Нет, баба останется тут, но мы будем её навещать, и она приедет к нам в гости.
Переговоры шли долго, Лариса унесла Антошку спать. Она особенно крепко прижимала его к себе в тот вечер и баюкала даже после того, как услышала, что дверь в спальню Ольги и Мити хлопнула, а Миша щёлкнул в своей комнате выключателем. Она держала внука, пока перебиралась на тахту и, тревожно оглядываясь, что кто-то заметит, положила рядом с собой, чтобы встать рано утром и перенести обратно в кровать. Ныла левая рука, но Лариса боялась, что Антошка проснётся, и не вытаскивала её из-под него. Перед тем как крепко заснуть, Антошка, как и Митя, смешно дёргал ногой, словно пытался оттолкнуться и выпрыгнуть из сна, но не мог.
Лариса подумала, что утром надо записаться к Алексею Евгеньевичу, потому что ныл сустав. Она вспоминала, как бродила по лесу с маленьким Митей, но уже во сне он почему-то превратился во взрослого Антошку.
— Баба… Баба! — кричал он, как будто заблудился, хотя стоял совсем рядом.
— Ты что, опять спала с Антошкой? Его надо приучать к своей кровати! — нависал над ней во сне Миша.
— Она его и так разбаловала, — возмущалась Ольга.
Митя молчал. Лариса не понимала, как они оказались в лесу, и удивлялась, что не успела переложить Антошку, хотя вставала раньше всех взрослых в доме.
«Надо бы купить новый халат, — подумала она, проваливаясь обратно в сон, — а то поеду в гости к Антошке, а там и ходить не в чем. И поскорее поехать. Может, напроситься на первое время с ними, помогать?»
Переложить Антошку Лариса действительно не успела. Из комнаты вышли все одновременно — Миша, допоздна работавший над книгой, Ольга и Митя. Рядом с тахтой стоял испуганный Антошка.
— Баба замёрзла, — сказал он и заплакал.
Редактор Кристина Цхе
Анна Пашкова, город Москва. Автор повести «Бог его имя» (Чтиво, 2021). Выпускница филологического факультета МПГУ, журналист. С детства носит очки с толстыми стеклами. Любит семейные саги, еврейскую культуру, коллекционирует старинные фотографии, потому что считает, что истории не должны умирать.
Сочинение на тему “Анализ-сравнение рассказов Л. Андреева “Бездна” и М. Горького “Страсти-мордасти”
Рецензии на книгу «Бездна» Леонид Андреев
Рассказ Леонида Андреева «Бездна» обязательно читать вместе с письмом главного героя автору, Андреевым же написанным. Сам по себе рассказ довольно вымученный и искусственный, и я склонна согласиться с его именитыми критиками, Львом Толстым, что ситуация в нем представленная вряд ли могла произойти в реальной жизни. Письмо же ставит все точки над i, превращая финал из банального ужастика в настоящую трагедию.
В письме Андреев от лица своего героя рассуждает о практике двойных стандартов, при которых мужчине разрешается вести сексуальную жизнь до брака, а для женщины это крайне нежелательно. И уже не важно, была ли женщина изнасилована, вступила ли в связь по любви с одним единственным или по расчету со многими, она по-любому оказывается опозоренной и выбракованной. При этом к мужчине никаких претензий не предъявляется, он пользуется такой свободой в личной жизни, о которой женщине приходится лишь мечтать.
Леонид Андреев написал этот рассказ в 1902 году. Печально, что он актуален и поныне.










Леонид Андреев — Бездна
prose_rus_classic Леонид Николаевич Андреев Бездна
В книге представлены рассказы одного из самых популярных писателей Россия конца XIX — начала XX веков. Они рисуют картину духовной жизни человека переходной эпохи, очень похожей на ту, которую мы переживаем сегодня. Эти произведения будут интересны всем, кто любит великую русскую литературу, открывающую читателю неограниченные возможности самопознания.
1902 ru glassy FB Tools, FB Editor v2.0 2005-09-21 https://www.leonidandreev.ru/ E84BB72B-1528-47DD-90C7-6D9BB83ED2EB 1.1 1998
Леонид Николаевич Андреев
И то, что впереди стало темно, не прервало и не изменило их разговора. Такой же ясный, задушевный и тихий, он лился спокойным потоком и был все об одном: о силе, красоте и бессмертии любви. Оба они были очень молоды: девушке было всего семнадцать лет, Немовецкому на четыре года больше, и оба они были в ученической форме: она в скромном коричневом платье гимназистки, он в красивой форме студента-технолога. И как и речь, все у них было молодое, красивое и чистое: стройные, гибкие фигуры, словно пронизанные воздухом и родные ему, легкая упругая поступь и свежие голоса, даже в простых словах звучавшие задумчивой нежностью, так, как звенит ручей в тихую весеннюю ночь, когда не весь еще снег сошел с темных полей.
Они шли, сворачивали там, где сворачивала незнакомая дорога, и две длинные, постепенно утончающиеся тени, смешные от маленьких головок, то раздельно двигались впереди, то сбоку сливались в одну узкую и длинную, как тень тополя, полосу. Но они не видели теней и говорили, и, говоря, он не сводил глаз с ее красивого лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих нежных красок, а она смотрела вниз, на тропинку, отталкивала зонтиком маленькие камешки и следила, как из-под темного платья равномерно выдвигался то один, то другой острый кончик маленькой ботинки.
Дорогу пересекла канава с пыльными, обвалившимися от ходьбы краями, и они на миг остановились. Зиночка подняла голову, обвела вокруг затуманенным взглядом и спросила:
— Вы знаете, где мы? Я здесь ни разу не была.
Он внимательно оглядел местность.
— Да, знаю. Там, за этим бугром, город. Давайте руку, я вам помогу.
Он протянул руку, нерабочую руку, тонкую и белую, как у женщины. Зиночке было весело, ей хотелось перепрыгнуть канаву самой, побежать, крикнуть: «Догоняйте!» — но она сдержалась, слегка, с важной благодарностью наклонила голову и немного боязливо протянула руку, сохранившую еще нежную припухлость детской руки. А ему хотелось до боли сжать эту трепетную ручку, но он также сдержался, с полупоклоном, почтительно принял ее и скромно отвернулся, когда у всходившей девушки слегка приоткрылась нога.
И снова они шли и говорили, но головы их были полны ощущением на минуту сблизившихся рук. Она еще чувствовала сухой жар его ладони и крепких пальцев; ей было приятно и немного совестно, а он ощущал покорную мягкость ее крохотной ручки и видел черный силуэт ноги и маленькую туфлю, наивно и нежно обнимавшую ее. И было что-то острое, беспокойное в этом немеркнущем представлении узкой полоски белых юбок и стройной ноги, и несознаваемым усилием воли он потушил его. И тогда ему стало весело, и сердцу его было так широко и свободно в груди, что захотелось петь, тянуться руками к небу и крикнуть: «Бегите, я буду вас догонять», — эту древнюю формулу первобытной любви среди лесов и гремящих водопадов.
И от всех этих желаний к горлу подступали слезы.
Длинные, смешные тени исчезали, и дорожная пыль стала серой и холодной, но они не заметили этого и говорили. Оба они прочли много хороших книг, и светлые образы людей, любивших, страдавших и погибавших за чистую любовь, носились перед их глазами. В памяти воскресали отрывки неведомо когда прочитанных стихов, в одежду звучной гармонии и сладкой грусти облекавших любовь.
— Вы не помните, откуда это? — спрашивал Немовецкий, припоминая: — «…и со мною снова та, кого люблю,[1] — от которой скрыл я, не сказав ни слова, всю тоску, всю нежность, всю любовь мою…»
— Нет, — ответила Зиночка и задумчиво повторила:
«Всю тоску, всю нежность, всю любовь мою…»
— Всю любовь мою, — невольным эхом откликнулся Немовецкий.
И снова они вспоминали. Вспоминали чистых, как белые лилии, девушек, надевавших черную монашескую одежду, одиноко тоскующих в парке, засыпанном осенней листвой, счастливых в своем несчастье; они вспоминали и мужчин, гордых, энергичных, но страдающих и просящих о любви и чутком женском сострадании. Печальны были вызванные образы, но в их печали светлее и чище являлась любовь. Огромным, как мир, ясным, как солнце, и дивно-красивым вырастала она перед их глазами, и не было ничего могущественнее ее и краше.
— Вы могли бы умереть за того, кого любите? — спросила Зиночка, смотря на свою полудетскую руку.
— Да, мог бы, — решительно ответил Немовецкий, открыто и искренно глядя на нее. — А вы?
— Да, и я, — она задумалась. — Ведь это такое счастье: умереть за любимого человека. Мне очень хотелось бы.
Их глаза встретились, ясные, спокойные, и что-то хорошее послали друг другу, и губы улыбнулись. Зиночка остановилась.
— Постойте, — сказала она. — У вас на тужурке нитка.
И доверчиво она подняла руку к его плечу и осторожно, двумя пальцами сняла нитку.
— Вот! — сказала она и, став серьезной, спросила: — Отчего вы такой бледный и худой? Вы много занимаетесь, да? Не утомляйте себя, не надо.
— У вас глаза голубые, а в них светлые точечки, как искорки, — ответил он, рассматривая ее глаза.
— А у вас черные. Нет, карие, теплые. И в них…
Зиночка не договорила, что в них, и отвернулась. Лицо ее медленно краснело, глаза стали смущенные и робкие, а губы невольно улыбались. И, не ожидая улыбающегося и чем-то довольного Немовецкого, она тронулась вперед, но скоро остановилась.
— Смотрите, солнце зашло! — с грустным изумлением воскликнула она.
— Да, зашло, — с внезапной, острой грустью отозвался он.
Свет погас, тени умерли, и все кругом стало бледным, немым и безжизненным. Оттуда, где раньше сверкало раскаленное солнце, бесшумно ползли вверх темные груды облаков и шаг за шагом пожирали светло-голубое пространство. Тучи клубились, сталкивались, медленно и тяжко меняли очертания разбуженных чудовищ и неохотно подвигались вперед, точно их самих, против их воли, гнала какая-то неумолимая, страшная сила. Оторвавшись от других, одиноко металось светлое волокнистое облачко, слабое и испуганное.
Щеки Зиночки побледнели, губы стали красными, почти кровавыми, зрачок неприметно расширился, затемнив глаза, и она тихо прошептала:
— Мне страшно. Тут так тихо. Мы заблудились?
Немовецкий сдвинул густые брови и пытливо оглядел местность.
Без солнца, под свежим дыханием близкой ночи, она казалась неприветливой и холодной; во все стороны раскидывалось серое поле с низенькой, словно притоптанной травой, глинистыми оврагами, буграми и ямами. Ям было много, глубоких, отвесных и маленьких, поросших ползучей травой; в них уже бесшумно залегала на ночь молчаливая тьма; и то, что здесь были люди, что-то делали, а теперь их нет, делало местность еще более пустынной и печальной. Там и здесь, как сгустки лилового холодного тумана, вставали рощи и перелески и точно выжидали, что скажут им заброшенные ямы.
«Бездна» Леонида Андреева: Атрибуция пародийных откликов 1903-1929 годов
Публикации. Воспоминания. Сообщения
«БЕЗДНА» ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА: АТРИБУЦИЯ ПАРОДИЙНЫХ ОТКЛИКОВ 1903-1929 годов
Когда в «Жизни» появился рассказ «Жили-были», Д. С. Мережковский прибежал в журнал и так же спросил:
— Кто скрывается под псевдонимом Леонид Андреев — Чехов или Горький?
Рассказ Леонида Андреева «Бездна» о том, как три босяка изнасиловали девушку, гулявшую с парнем-студентом, и о том, какие чувства к изнасилованной проявил пришедший в себя избитый студент, вызвал столь невероятное количество откликов в повременной печати, что их относительно полное собрание могло бы составить два-три больших тома. Однако, как мы покажем, даже громадное количество библиографических позиций в указателе Андреева[2] не охватывает всех крупных откликов, анкет и дискуссий, посвященных скандальному рассказу.
Были среди них и пародийные письма чуть ли не всех героев рассказа, опубликованные впервые в трех газетах Москвы, Житомира и Одессы, а также в специальной книге, вышедшей в Берлине.
События развивались стремительно.
Сначала взволнованный Андреев писал Горькому о желании самому написать некую «Анти-Бездну». И действительно, на скандал со своим рассказом Джемс Линч (Леонид Андреев) прореагировал.
В комментарии к письму Андреева Буревестнику революции, опубликованному в «Литературном наследстве»[3], упоминались три известных письма героев «Бездны» в разные русские газеты — Сергея Немовецкого в «Курьер» (Москва), Зинаиды Немовецкой в «Одесские новости», трех бандитов в «Волынь» (Житомир) — причем указывались и их авторы: сам Андреев, написавший якобы 6 марта 1903 года письмо от имени героя рассказа Немовецкого[4], работал в «Курьере»; Владимир Жаботинский, написавший якобы 17 марта 1903 года письмо Зинаиды Немовецкой, был автором «Одесских новостей»; и неизвестный автор третьего письма, скрывшийся под псевдонимом «Омега»: на сей раз это было письмо трех «босяков», опубликованное в газете «Волынь» 10 марта, то есть между 6 и 17 марта того же года.
Нетрудно видеть, что авторство писем определялось принадлежностью людей с известными именами к известным газетам. Хотя ни одно из писем не было подписано. И раз история житомирской «Волыни» не изучена так, как истории двух остальных газет, то никто не озаботился поиском волынского шутника, хотя формально его псевдоним указан в Словаре псевдонимов И. Масанова — это якобы О. Л. Оршер (Оль д’Ор). Однако никому почему-то не захотелось включить его третьим в наш сюжет. И основания, которых мы коснемся специально, у этого решения были: слишком уж несоразмерен мельчайший журналист провинциальной «Волыни» двум всероссийски известным юным звездам новой русской журналистики и литературы.
Правда, если имя Андреева было не очень убедительно присоединено к нашей истории при помощи письма Горькому, то сведений о том, почему именно Жаботинский стал автором второго письма, комментатор «Литературного наследства» не представил.
Он указал, однако, что все эти письма были собраны в отдельном издании некоей фирмы Рэде (Берлин) вместе с «Бездной» и статьей Л. Толстого о Мопассане[5].
Теперь, вслед за анекдотом из эпиграфа к настоящей статье, нам предстоит понять: кто скрывается под именем Леонида Андреева в истории с «Бездной».
Скажем сразу, все последующие за «Литнаследством» исследователи приводят имена авторов писем и сведения о книге Рэде, доверяясь авторитету «Литературного наследства». Между тем имя автора письма героини теперь навсегда связано с этим текстом и в работах израильских исследователей[6], и в России[7].
В свою очередь, исследователи, приписывающие «письмо Немовецкого» Андрееву, а «письмо Зинаиды Немовецкой» в «Одесских новостях» — Жаботинскому, не отмечают, что за несколько дней до публикации в «Одесских новостях» «письма Зинаиды Немовецкой» там же в колонке новостей появилась перепечатка «письма Немовецкого» из «Курьера». При перепечатке, однако, отсутствовал абзац, сопровождавший публикацию в «Курьере»: «По наведенным справкам ни в одном техническом заведении не оказалось студента с этой фамилией. Таким образом, письмо это является просто оригинальным приемом критики «Бездны». Помещаем его ввиду интереса, который возбуждает теперь снова этот напечатанный нами год тому назад рассказ нашего уважаемого сотрудника».
Справка была не нужна, поскольку в «Одесских новостях» уже сама «Зинаида Немовецкая» напишет: «В «Курьере» появилось недавно письмо за подписью «студента-техника Немовецкого», героя рассказа «Бездны». Чрезвычайно удивленная и озадаченная этим странным письмом, я, жена Немовецкого (ныне уже инженера), та самая, с которой случилось рассказанное в «Бездне», берусь за перо, чтобы объявить обществу, что напечатанное в «Курьере» письмо написано не моим мужем, который написать его не мог. Я считаю себя обязанной реабилитировать в глазах читающей публики имя любимого мною человека, а кстати — и это, быть может, главное — исправить ошибку сделанного г. Андреевым вывода о «черной бездне»…»; само «письмо Немовецкого» «Зиночка» открыто называет «подложным».
Однако и в «Одесских новостях» редакция была не лыком шита и приписала: «Письмо это доставлено нам по городской почте, между тем, по наведенной в адресном столе справке, никакой З. Немовецкой в Одессе на жительстве не значится. Ред.».
Итак, если читатель «Одесских новостей» не читал «Курьера», то он читал предшествующий выпуск своей газеты и должен был поверить в существование Немовецкого и в предельную документальность рассказа. «Одесские новости», знавшие приписку в «Курьере», теперь, «сомневаясь» в подлинности «письма Немовецкого», сами дезавуировали разоблачительницу. Те же, кто читали «Курьер» (мы имеем в виду и современных исследователей), и так знали, что Андреев под псевдонимом Джемс Линч высказался на эту тему совершенно иначе[8].
Таким образом, мы имеем две даты двух посланий: 6 и 17 марта 1903 года.
Эти «семейные» письма, приписываемые Андрееву и Жаботинскому, публикуются и описываются исследователями, — во всех известных нам случаях, как будто они следуют одно за другим. А вот письмо из «Волыни» неизвестного «Омеги», появившееся между «семейными» письмами 10 марта 1903 года, описывается вслед за обрамляющими письмами, хотя стоять оно должно между ними.
Текст неизвестного автора всегда в глазах исследователей «весит» меньше, чем подписанные тексты. Но подчеркнем еще раз, что и первые два письма никем не подписаны, а «литературные» подписи под ними дезавуированы обеими редакциями. Следовательно, никаких преимуществ письма в «Курьере» и «Одесских новостях» перед житомирским письмом не имеют. Поэтому мы поставим теперь это третье волынское письмо вторым, как оно и было написано, — и прочтем его в нужном порядке.
«В московском «Курьере» было напечатано письмо студента Немовецкого, печального героя Леонидандреевской «Бездны».
В одной из одесских газет высказалась «письмом в редакцию» и сама Зиночка по поводу неприятной истории в лесу…
Между Зиночкой и Немовецким только вышла маленькая размолвка.
Немовецкий утверждает, что Зиночка после «истории» сделалась ему противной, и он почувствовал даже отвращение, прикоснувшись к ее голому телу.
Зиночка же, наоборот, уверяет, что после «истории» она сочеталась с Немовецким законным браком, живут они теперь душа в душу и даже рассчитывают скоро покумиться с Леонидом Андреевым».
Но мы знаем, что «одна одесская газета», то есть «Одесские новости», напечатает письмо никому не известной пока еще Зиночки только через неделю после этой публикации в «Волыни»!
«Омега» в конце приведенной выше цитаты упоминает «письма Немовецкого» в «Курьере» и «Одесских новостях», а точной ссылки на еще не появившееся «письмо Зиночки», по понятным причинам не дает.
В комментарии Чувакова к Собранию сочинений Леонида Андреева мы читаем довольно расплывчатые рассуждения по этому поводу. И не удивительно, ведь комментатор не осведомлен или не учитывает того, что автор «Волыни» заранее знает о публикации письма Немовецкого в «Одесских новостях», когда пишет:
Подражанием «Письму в редакцию» Немовецкого было также «Письмо в редакцию», подписанное именем Зинаиды Немовецкой, то есть героини, ставшей по воле автора «Письма» женой Немовецкого (автор — В. Жаботинский, напечатано в «Одесских новостях», 1903, № 5918, 17 марта); появилось и «письмо» босяков («Волынь», 1903, № 65, 10 марта, автор скрылся под псевдонимом Омега). В 1903 г. «Бездна» была напечатана в Берлине издательством Иоганна Рэде. Книга была дополнена статьей Л. Н. Толстого о Г. Мопассане и «письмами» героев рассказа[9].
При этом на сей раз «Письмо босяков» — Рыжего, Высокого и Краснощекого — опубликовано не абстрактной «редакцией», а автором рубрики «Обо всем» в житомирской «Волыни» — неким «Омегой»[10]. Его сопровождение к этому письму в «Волыни» тоже не так уж просто: «Печатаем письмо трех босяков и ручаемся, что это письмо также «подлинно», как «подлинны» письма Немовецкого в «Курьере» и «Одесских новостях»»[11].
Итак, автор «Волыни» даже не постеснялся назвать точное место будущей публикации — «Одесские новости».
Словарь псевдонимов Масанова дает, как мы говорили, несколько неожиданный ответ: «Омегой» в «Волыни» был, по мнению составителя, известный журналист и юморист Оль д’Ор (Оршер)[12]. Однако из его мемуаров «Старого журналиста» (это один из псевдонимов Оршера, использованный вместо имени автора уже в советской книге) мы знаем, что работал он в этой газете ведущим отдела городских происшествий и вел как редактор еще пару отделов, а получал рублей 20-30 в месяц[13].
К нашему «Омеге» — ведущему подвальный фельетон «Обо всем» — все это никак не может относиться. (К тому же у Масанова встречается и очень странная «склейка», когда составитель назвал «Старым журналистом» — помимо гарантированного Оль д’Ора — еще и Жаботинского.)
Чуваков вообще ничего не говорит о сопровождающем публикацию «письма босяков» тексте «Омеги», хотя, в отличие от двух первых писем, третье является составной частью фельетона, а не «письмом» в редакцию. И это тоже понятно — не совпадает хронология публикаций.
Поэтому оказалось проще поместить письмо из «Волыни» после «семейных» писем на третьем месте — точно так, как это сделал Чуваков, откуда-то знавший об авторстве одного из писем Жаботинского и в комментариях к собранию, и в «Литературном наследстве». Отметим, что Жаботинского — лидера одного из самых радикальных направлений политического сионизма — упоминать до самых последних лет не полагалось, тем более рядом с Горьким или Лениным. Поэтому уверенность редакции «Литературного наследства», пошедшей на едва ли не единственное упоминание имени Жаботинского в своем издании, проходным фактом быть не может.
Но если предположить, что и первое письмо писал не Андреев, а все три письма написаны одним человеком? Кто же этот человек, явно близкий к Андрееву и при этом сотрудник «Одесских новостей» и «Волыни»? На наш взгляд, единственным логичным выходом из этой ситуации является трудное признание того факта, что автором всех трех писем является один и тот же человек, работавший в южной печати и одновременно имевший отношение к московским и питерским литературным кругам, да еще и близкий к кругу Максима Горького и Леонида Андреева. И этот человек — Владимир Жаботинский[14].
Напомним, что дискуссия о письмах завершилась статьей СИГа (С. Гольдельмана) в «Одесских новостях» 20 марта 1903 года, где обсуждалась допустимость подобных литературных мистификаций вообще. В этой статье особо подчеркивалось, что скандал, бушевавший вокруг них в южных газетах (sic!), затеян был для того, чтобы выработать у читателей настоящий литературный вкус и более ни зачем. То есть налицо взгляд СИГа на всю эту дискуссию как на цельный эпизод, имевший автора и срежиссированный этим автором с некоей ясной целью.
Но если речь идет о Жаботинском, то какое отношение к «Волыни» имел он во время всей этой истории?
Присутствие Жаботинского в «Волыни» в интересующее нас время подтверждается текстами другого псевдонима — некоего «Иорика», начавшего печататься в житомирской газете несколько позже «Омеги». «Иорик» также без объяснений отнесен Масановым к Оль д’Ору. Не исключено, что это связано с позднейшим использованием Оршером псевдонима «Омега» в «Одесском листке».
Однако мы позволим себе с Масановым не согласиться. И этому есть две причины. Во-первых, Иорик опубликовал в своем недельном фельетоне 15 декабря 1902 года пьесу «Юбилей печати»[15], которая полностью соответствует статье Жаботинского (Alatalen’ы) о праздновании юбилея русской печати[16]. Центральной фигурой этого сочинения является Аким Волынский, которого с Жаботинским многое связывало[17]. К тому же в этой пьесе действует достаточно издевательски описанный «Старый журналист», то есть Оршер. Однако Оль д’Ор не имел никакого отношения к Волынскому и не стал бы себя изображать мелким и смешным персонажем. Жаботинский же помнил Волынского всегда, включив его в итоге и в число персонажей романа «Пятеро» в 1936 году.
Вторая причина еще более убедительна.
В апреле 1902-го Жаботинский-Altalena опубликовал под рубрикой «Вскользь» фельетон «Рыжие», назвав этим словом и себя, и своих коллег-журналистов:
Ждите же спокойно и хладнокровно моей клоунской затрещины — и, если она окажется тяжелой, успокойтесь той мыслью, что мы с вами оба «рыжие» и что обоих горькая судьба заставляет ломать дураков… перед публикой[18].
Примерно через год Жаботинский нечаянно задел в своем фельетоне газету «Волынь». Тогда же фельетонист извинился перед «Волынью» в «Одесских новостях», а в самой «Волыни» под псевдонимом Иорик напечатал фельетон о том, как он год тому назад назвал фельетонистов «рыжими»[19]. Мысль была та же, что и в первом случае: не обижайтесь.
Но Жаботинский не был бы Жаботинским, не обыграв подобную ситуацию.
4 мая 1903 года Altalena пишет фельетон, в котором отвечает некоему читателю на вопрос с эпиграфом: «Смейся, паяц!»[20], который цитируется обычно как шутливый или иронический комментарий к любовным неудачам — о том, страдает ли он, как думает некий его корреспондент, или нет. В других случаях Жаботинский-Altalena называл себя «скоморохом» и т. д. В поздних мемуарах «Повесть моих дней» Жаботинский вместо «рыжего» (клоуна) назвал себя и своего коллегу «клоунами», но помнил он об этом своем образе до конца дней:
Однажды — и это была, кажется, единственная из всех статей этого периода, которую стоило бы спасти от погребения, — я назвал себя и всех остальных своих собратьев по перу черным по белому «клоунами». Статья была направлена против одного журналиста из конкурирующей газеты, человека достойного, спокойного и безликого, не умного и не глупого, анонима в полном смысле этого слова, который стал для меня своего рода забавой и над которым я потешался при всякой возможности и без всякой возможности, просто так. Однажды я обратился к нему прямо и написал: разумеется, без причины и нужды травил я тебя и буду травить, потому что мы клоуны в глазах бездельника-читателя. Мы болтаем, а он зевает, мы желчью пишем, а он говорит: «Недурно написано, дайте мне еще стакан компоту». Что делать клоуну на такой арене, как не отвесить пощечину своему собрату, другому клоуну?[21]
Констатируем: Жаботинский в «Волыни» печатался под двумя псевдонимами — Иорик и Омега[22]. Оба их Масанов отнес к О. Л. Оршеру, и именно это помешало исследователям увидеть истинного автора далеко не тривиальных текстов и связать воедино все три письма от имени героев «Бездны». При этом отметим лишний раз, что Оршеру всю эту игру никто и никогда не приписывал.
И, наконец, кто создал берлинскую книжку «Бездна», которая вышла с четвертым «эпистолярным документом», впервые опубликованным в ней письмом персонажа рассказа — на сей раз некоего Федора?
Имеется в виду книга, вышедшая в Берлине в 1903 году, которую, на сей раз, опишем полностью с титула: «Andrejeff. Der Abgrund. Леонид Андреев. «Бездна» со статьей Льва Толстого и полемической литературой. Берлин. Издательство Иоганна Рэде. Verlag Johannes Rade in Berlin. W. 15″.
Странности начинаются уже с приведенного заголовка и подзаголовка книги.
Если это издание «Бездны», то принимал ли в нем какое-то участие сам Андреев? Ведь кроме текста его рассказа в книгу входит и «письмо Немовецкого» из «Курьера», традиционно атрибутируемое Андрееву.
О какой «полемической литературе» идет здесь речь, если кроме анонимного и ернического «Вместо предисловия» и пародийного введения к статье Л. Толстого о Мопассане, нет даже обязательного и упомянутого во вводном тексте письма С. Толстой, не говоря уже о статье В. Буренина, а из почти сотни полемических статей о «Бездне» в книге приведены только «письма» героев рассказа Андреева, да и они не во всем соответствуют газетным публикациям?
Так, отсутствуют известные нам примечания от редакций «Курьера» и «Одесских новостей» для первых двух писем, а третье, опубликованное в житомирской «Волыни» и явно сочиненное «Омегой», заменено на другое, совершенно новое письмо босяка по имени Федор.
Не приведен и пародийный, очень информативный комментарий к третьему письму «житомирского» «Омеги», знающего все про вышедшие и еще не вышедшие одесские газеты[23]. Но оно уже было post factum и при другом письме никому не нужно. Да и сочинено четвертое письмо неизвестно кем.
Понятно, что единственным путем, который может позволить нам приблизиться к загадке берлинской «Бездны», будет пристальное и внимательное чтение загадочной книги.
Итак, «Вместо предисловия»:
Мы не разделяем довольно распространенной у нас в России точки зрения относительно недостаточной обоснованности и мимолетности литературной славы Леонида Андреева. Мы думаем, напротив, что он ее достоин, он должен дать нам еще длинный ряд произведений, стоящих, во всяком случае, не ниже того, что он уже успел дать нам за какие-нибудь два-три года литературной деятельности.
Уже это сообщение заслуживает анализа. Ведь первый рассказ Андреева «Баргамот и Гераська» появился не за «два-три» года литературной деятельности в 1903 году, а за пять. В 1901 же году в журнале «Жизнь» появился рассказ «Жили-были». В тот момент об Андрееве вполне одобрительно отзывался Толстой. Но «Бездна», опубликованная в 1902 году, по популярности превзошла все предыдущие публикации.
Таким образом, автор анонимного предисловия хорошо знал, на что намекал. Но читаем дальше:
Мы едва ли ошибемся, если скажем, что наиболее ярким произведением Андреева является до сих пор его «Бездна». Чем выше утес, тем сильнее бьются о него волны, сказал Гейне. «Бездна» Андреева взбаламутила целое море русской журналистики и вызвала целую литературу.
Здесь привлекает внимание явно оксюморонное сопоставление «утеса-великана» с «бездной», которое лишь усиливает пародийный эффект. Более того, автор пишет: «Мы даем ниже самый рассказ Андреева в редакции полной, не искаженной русской цензурой…» Однако никаких цензурных вмешательств в судьбу «Бездны» мы не заметили, да и наши предшественники ни о чем подобном не писали.
…и наиболее интересное, что появилось по поводу «Бездны»: письмо студента-техника Немовецкого, письмо Зиночки, письмо босяка Федора, одного из тех трех, что произвели нападение в лесу, наконец, столь нашумевшее письмо графини Толстой…
Однако именно его-то в книге как раз и нет, а есть не публиковавшееся в газетах «письмо Федора». Есть в книге и статья графа Толстого о Мопассане, отнесенная анонимным составителем к полемической литературе о «Бездне», но к «Бездне» Андреева, в отличие от письма графини Толстой, отношения не имеющая: «И весьма важное для всех мнение самого графа Толстого по вопросу о порнографической литературе, предаваемой анафеме его супругой».
Таким образом, важнейшей из наиболее интересной литературы о «Бездне» оказывается для составителя старая статья Толстого, написанная за 8 лет до андреевского рассказа и по другому поводу. Но ведь общероссийский скандал по поводу «Бездны» спровоцировало письмо графини С. Толстой. И оно-то как раз в книгу, как мы видели, не включено. Это письмо становится в контексте книги не просто отсутствующим, но несуществующим, дезавуированным — подобно тому, как дезавуировались «письма супругов Немовецких». Такого рода полемическая игра с отзывами о «Бездне» четы Толстых не может не удивлять.
Кажется, то, что в книге письмо «трех босяков» оказалось заменено письмом только одного из них с принципиально иным содержанием, и может быть связано с другой полемикой — уже с самим Львом Николаевичем. Во временной промежуток между выходом пародийных писем и указанной «берлинской» книги в очередной раз стало известно, что он самолично отрицательно высказался о «Бездне».
Об этом сообщил южному провинциальному читателю Musca (Мускаблит Ф. Т.) в газете «Южное обозрение» (Одесса, 1903, 16 февраля). Автор заметки встречался с Толстым летом 1902 года: по его словам, классик возмущался «Бездной». Это одесское сообщение Мускаблита о реакции Толстого на «Бездну» было не первым, а повторным выступлением на эту тему. Впервые же Мускаблит сообщил о своей встрече с Толстым за полгода до этого в «Биржевых ведомостях» от 31 августа 1902 года. Следовательно, заметка в «Южном обозрении» включала его старую статью в новый полемический контекст — контекст второго круга полемики о «Бездне», включающего и наши письма, к которому мы еще вернемся.
Теперь обратим внимание на «имена» босяков, которых в рассказе Андреева нет. Есть лишь характеристики «Высокий» и т. д. Никого с именем «Федор», автора уже четвертого письма, рассказ Андреева не знает.
Пародийный мотив берлинской книги, возможно, стоит за прозвищами «героев» рассказа — босяков, которых, как известно, было трое: Рыжий, Высокий и Краснощекий.
Главный противник «Бездны» — автор «Войны и мира» — был «бородатым», «волосатым», «высоким». Возможно, у «письма трех» имеется литературно-полемический контекст, который заставляет искать и другие литературные источники вдохновения не таких уж и простых «босяков».
Подобное наблюдение могло бы показаться натянутым, если бы не письмо некоего «Федора» — четвертое послание героев «Бездны», опубликованное лишь в берлинском сборнике. Вот оно:
Письмо босяка Федора.
Сижу это я вчера в кабаке и как следует прохожусь по адресу казенной «монопольки». И подходит ко мне кабатчик Фаддей с такими грубыми словами: «Эй ты, бритый, грамотный ты сам али нет?» — «А тебе на что?» — спрашиваю я Фаддея. — «Да так», говорит, «хотел тебе в предупреждение. Потому, говорит, тут в газетах про одного пьяницу и забулдыгу пишут, что девочкой одной из дворянок не по закону в лесу побаловался. А так как ты бритый», говорит, «а Федька, твой приятель, рыжая собака, Степка же, твой приятель и собутыльник, очень высокий, то не ты ли с ними эту самую девчонку в лесу облапошил? С тебя сегодня все может статься».
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.
Прежде чем начать аналитическое сравнение этих двух рассказов таких самобытных русских писателей, как Леонид Андреев и Максим Горький, зададимся следующими вопросами: 1. Чем отличаются концепции двух рассказов? 2. Что увидел Леонид Андреев за хрупкостью этических норм человеческой культуры? 3. Как читающая Россия отнеслась к рассказу? 4. Почему Горький, взявший поначалу сторону Андреева, (потом от него отошедший) в «Несвоевременных мыслях» говорит, что «жизнь подтверждает самые мрачные фантазии» автора этого рассказа? 5. Наум Коржавин писал о тех, «в ком страх увидеть бездну сильней, чем страх в нее шагнуть». Можно ли, исходя из своего жизненного опыта, подтвердить правоту того и другого писателя? 6. Почему в заглавии Андреева используется тютчевское понятие «бездны»? 7. Как соотносятся с этими рассказами открытия Ф. М. Достоевского? Декадентство Андреева и романтизм Горького сделали взгляды писателей на взаимоотношения мужчины и женщины, на возникновение животных инстинктов в человеке совершенно полярными. \ Сюжеты обоих рассказов развиваются в диаметрально противоположных направлениях. В «Бездне» Л. Андреева мы видим влюбленную пару. Зиночка и Немовецкий полны надежд на будущее, мечтают о жертвенной любви и, может быть, считают, что любят друг друга. Этому способствует и великолепный пейзаж, их окружающий. Начало, как мы видим, вполне романтическое. Но вдруг сюжет делает резкий поворот — и позолота, лак сентиментальности слетают, обнажая бездны человеческой души. «Бездна!» Выходят на поверхность все низменные животные инстинкты подсознания — и образованный молодой человек морально опускается ниже бродяг, уподобляется зверю, сохраняя лишь одно человеческое качество — «способность лгать». Да… Глубины подсознания пугают, даже сам человек порой не знает, на что он способен… М. Горький исходит совершенно из другого постулата. Атмосфера начала рассказа «Страсти-мордасти» настраивает на разврат, грязь, падение, но неожиданная коллизия — и романтические чувства возникают там, где их, казалось бы, быть не может. На дне жизни человек не опускается до состояния животного, а даже возвышается до сострадания, до помощи слабому, до великодушия. Мы видим зеркальное отражение как бы двух фабул — Горький находит романтизм на «окраинах жизни», а Андреев показывает страшные бездны души обычного человека. Надуманные этические нормы человечества лишь прикрывают его порочные желания, его развращенную сущность. Люди не умеют любить и понимать друг друга… Печорин говорил, что женщина подобна цветку — подышать «ароматом досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет…» В каждом мужчине подсознательно дремлет уверенность, что это правда, что именно так и нужно поступать: и невинная наивная Зиночка втоптана в грязь… Я не думаю, чтоб людям нравилось, когда о них говорят правду, показывают самые замусоренные, засаленные уголки их души… Думается, что читающей Россией не был ни понят, ни принят этот рассказ. Психологи никогда не были в почете у народной массы. Но интеллектуалы поняли, что «жизнь подтверждает самые мрачные фантазии автора» (Горький). И я, исходя даже из моего семнадцатилетнего опыта, могу согласиться с этим. Кто-то из современных великих людей сказал, что человеческая душа — помойная яма жизни… Это — так?! Так! Так… Мы же, люди, часто не желаем этого сознавать, всячески отрицаем свою низость, тем не менее — увы, часто! — с упоением бросаемся в нее, ища наслаждения в пороке… Глубины человеческой души, психические отклонения волновали русскую литературу’ еще в XIX веке, психология, иными словами, всегда интересовала литературу, питала ее сюжеты. Вспоминаются сразу Тютчев и Достоевский с их проникновением в «бездны». Достоевский изучал глубины души человеческой, отыскивая в них самое страшное, на что хотелось бы закрыть глаза, но что существует независимо от нашего сознания и желаний. В страшных образах Свидригайлова, Рогожина, даже Раскольникова, по сути, не должно быть ничего страшного — это обычные люди… У них есть голова, руки, ноги, но их психика обнажена писателем-психологом, и — «хаос шевелится…». В понимании Тютчева бездна — весь мир, вся Вселенная, включая человека с его стремлениями, желаниями, потребностями… «Нет преград меж ей и нами — / Вот почему нам ночь страшна». Страшен окружающий мир, но и заглянуть в себя — страшно.
Предложения интернет-магазинов
Похожие материалы:
Анализ-сравнение рассказов Л. Андреева «Бездна» и М. Горького «Страсти-мордасти»
Декадентство Л. Андреева и романтизм М. Горького ‘сделали взгляды писателей на взаимоотношения мужчины и женщины, на возникновение животных инстинктов в человеке полярными. Сюжеты обоих рассказов развиваются в диаметрально противоположных направлениях. В начале «Бездны» Л. Андреева мы видим влюбленную пару. Зиночка и Немовецкий полны надежд на будущее, мечтают о жертвенной любви и, может быть, считают, что любят друг друга. Этому способствует и великолепный пейзаж, их окружающий. Начало, как мы видим, вполне романтическое. Но совершенно вдруг сюжет делает резкий поворот — и позолота, лак сентиментальности слетают, обнажая бездны человеческой души. «Бездна!» Выходят на поверхность все низменные животные инстинкты подсознания — и образованный молодой человек падает ниже бродяг, уподобляется зверю, сохраняя лишь одно человеческое качество — «способность лгать». Да… Глубины подсознания пугают, даже сам человек порой не знает, на что он способен… М. Горький идет совершенно от другого постулата. Атмосфера начала рассказа «Страсти-мордасти» настраивает на разврат, грязь, падение, но неожиданная коллизия — и романтические чувства возникают там, где их, казалось бы, быть не может. На дне жизни человек не опускается до состояния животного, а даже возвышается до сострадания, до помощи слабому, до великодушия. Мы видим зеркальное отражение фабул — М. Горький находит романтизм на «окраинах жизни», а Л. Андреев показывает страшные бездны души обычного человека. Надуманные этические нормы человечества лишь прикрывают его порочные желания, его развращенную сущность. Люди не умеют любить и понимать друг друга… Печорин говорил, что женщина подобна цветку — подышать «ароматом досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет…». В каждом мужчине подсознательно дремлет уверенность, что это правда, что именно так и нужно поступать: и невинная, наивная Зиночка втоптана в грязь… Я не думаю, что людям нравится, когда о них говорят правду, показывают самые замусоренные, засаленные уголки их души… Думается, что читающей Россией не был ни понят, ни принят этот рассказ. Психологи никогда не были в почете у народной массы. Но интеллектуалы поняли, что «жизнь подтверждает самые мрачные фантазии автора» (Горький). И я, исходя даже из моего семнадцатилетнего опыта, могу подтвердить это. Кто-то из «современных великих» сказал, что человеческая душа — помойная яма жизни… Это — так?! Так! Так… Мы же, люди, часто не желаем этого сознавать, всячески отрицаем свою низость, тем не менее (увы — часто!) с упоением бросаемся в нее, ища упоения в пороке… Глубины человеческой души волновали русскую литературу еще в XIX веке, литературу — психологию. Вспоминаются сразу Тютчев и Достоевский с их проникновением в «бездны». Достоевский изучал глубины души человеческой, отыскивая в них самое страшное, на что хотелось бы закрыть глаза, но что существует независимо от нашего сознания и желаний. В страшных образах Свидригайлова, Рогожина, даже Раскольникова, по сути, не должно быть ничего страшного — это обыкновенные люди… У них есть голова, руки, ноги, но их психика вскрыта писателем-психологом и — «хаос шевелится»… В понимании Ф. Тютчева бездна — весь мир, вся вселенная, включая человека с его стремлениями, желаниями, потребностями… «Нет преград меж ей и нами — Вот почему нам ночь (хаос!) страшна». Страшно заглянуть в мир, в себя — страшно!