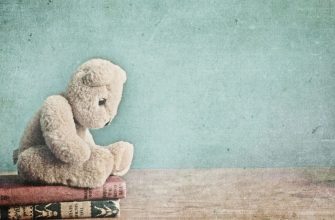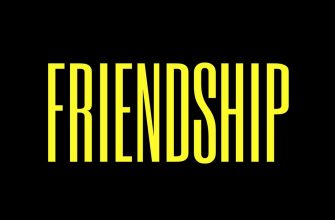Анализ рассказа Елены Долгопят «Часы»
Сегодня, когда советская проза понемногу изживает себя, на замену ей приходит проза российская. Реализм, порой теплый и безмятежный, порой тяжелый и трагический — вот то, что хочет видеть в своих руках читатель. Перед писателями современностями, пишущими в жанре реализма, стоит задача затронуть душу человека, рассказав про жизни людей просто и непредвзято, не сочиняя небылиц и не придумывая откровенно фантастические детали и элементы. Рассказать про жизнь таких же людей, обитающих в такой же стране, думающих так же, как думает читатель — очень тяжело. Однако писатель Елена Долгопят вполне удачно справляется с этой задачей, представляя свой цикл рассказов. По большей части речь в них идет о ней самой — однако колорит героев рассказов, их судьбы и жизненные истории раскрывают перед читателем совершенно новые и захватывающие картины жизни людей в России. Одним из таких рассказов является рассказ под названием «Часы».
Интересная особенность рассказа «Часы» состоит в том, что, несмотря на очень небольшой объем, в произведении описывается сразу много самых разных по своей динамике событий.
Главная героиня, пишущая от первого лица, мечтала стать криминалистом. Проучившись два с половиной года, изучив физику, дактилоскопию, механику, баллистику и множество иных профессиональных дисциплин, она становится домохозяйкой: следит за домом и воспитывает детей. Однако автор совсем не описывает подобный быт как скуку и рутину; героиня принимает свой текущий жизненный уклад, как должное. За этим не только стоит облик ее характера, но и подразумевается череда неописанных событий в ее жизни, которые привели ее к «смене курса». Вот и первый прием Елены Долгопят — хронология событий показано выборочно, так, будто бы источник рассказа — память простого человека о событиях минувших дней. Сами события отрывочны и не структурированы; женщина в рассказе вспоминает только то, что хотела вспомнить и преподнести.
Быт главной героини по домохозяйству пересекается с расписанием ее соседей — стариков. Именно с расписание, потому что каждое их действие подчинено строгому распорядку, что многократно подчеркивается в самом рассказе. Их время прошло, их часы «протикали»…
Первый безыменный персонаж — старушка, работавшая раньше известным звукооператором. Она была знакома со многими популярными людьми, а ее фотографии на стенах пестрят яркими воспоминаниями из молодости. Сейчас старушка «включилась» в свой режим работы, расписанный по часам.
Второй главный герой рассказа — Иван Андреевич Еременко — бывший парикмахер. Еще совсем недавно он продолжал оказывать услуги на дому, наш криминалист после родов даже обращалась к нему за помощью. Будучи некогда мастером своего дела, сейчас Иван Андреевич посвящает большую часть времени своей коллекции часов, в которой хранятся дорогие и чрезвычайно редкие экземпляры.
Кульминация рассказа — некий грабитель, абсолютно безликий, крадет несколько часов из потайной комнаты. О приметах грабителя, которого якобы в дверях дома видел Иван Андреевич, ничего не известно даже самому старику. Уверяя всех, что он чувствовал запах преступника, пожилой коллекционер не может даже узнать или описать этот запах.
Рассказ завершается резко и непонятно для читателя — героиня рассказа «разгадывает» загадку, ответом на которую становится портрет рыцаря 15 века. Как это понимать? Схожесть лица грабителя с лицом рыцаря на художественном изображении — случайность, достойная рассказа, или безумие одного из героев? Право ответа предоставлено читателю.
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 4.6 / 5. Количество оценок: 5
Долгопят Елена. Рассказ «Часы» (от 14 лет)
Когда-то, в общем не так давно, я готовилась стать экспертом-криминалистом, то есть училась находить человека по его следам, материальным и нематериальным, видимым невооруженным или только вооруженным глазом. Даже при современном уровне развития методов и приемов восстановления облика и характера человека по одной капле его крови, по тембру голоса, по манере ставить запятые или разбивать текст на абзацы дело это непростое и лежит не столько в области науки (уж, во всяком случае, не только!), сколько – искусства. Так что человеку непосвященному это может показаться волшебством, как, впрочем, может показаться волшебством осуществление химической реакции семиклассником
(вполне возможно, что и самому семикласснику это кажется волшебством). Но есть люди, и ученые, и певцы, и литераторы, которые даже посвященным кажутся волшебниками. Они и сами не всегда знают, по каким законам их мысль находит верное решение, а голос – верную интонацию. Тем самым они отличаются, к примеру, от Шерлока Холмса, рассказы о котором походят на сеансы черной магии с непременным разоблачением в конце. Обаяние этих рассказов лежит где-то вне их, в непредусмотренной ими области, что, впрочем, тоже является волшебством.
Криминалистику я изучала два с половиной года. Занималась химией, физикой, математикой, юриспруденцией, психологией творчества, психологией обыденного сознания (что, между прочим, является самой неисследованной областью, – об отклонениях известно гораздо больше, чем о норме). Нам преподавали философию, риторику, механику, мы изучали все особенности всех известных на то время марок автомобилей, систем оружия…
Училась я с удовольствием, но криминалистом не стала. Я вышла замуж, родила двоих детей и превратилась в домашнюю хозяйку. Мои обширные познания я передаю детям, пока им интересен мир.
Дом наш большой и старый, и живет здесь много одиноких стариков.
В прошлом многие из них были люди известные, заслуженные, артисты, ученые, художники.
Старики живут по расписанию: в одно и то же время встают, завтракают, смотрят новости по телевизору или прочитывают газету, прогуливаются, сидят в скверике на скамейке, если позволяет погода, наблюдают за текущей мимо них жизнью. Идут в магазин, где все продавщицы их знают и справляются о здоровье.
Старики возвращаются домой, готовят обед, слушают радио, разговаривают вслух сами с собой или с диктором, звонят по телефону оставшимся в живых друзьям или соседям.
Есть, конечно, такие, кому и позвонить некому. Есть и такие, кто уже совсем не выходит из дому. Сердобольные соседи приносят им из магазина еду, убирают раз в неделю квартиру, разговаривают. Я сама ухаживаю за одной такой старушкой на нашей площадке.
Старушка работала когда-то звукооператором в кино, в ее альбомах
– фотографии великих режиссеров и актеров давних лет и несколько поздравительных открыток от создателя первого нашего сериала.
Когда-нибудь я расскажу странную историю, приключившуюся с ней в
1935 году в санатории «Красная Ривьера» во время февральского шторма. Смысл этой истории прояснился через полвека.
Но вернемся к старикам, живущим по расписанию.
Иван Андреевич Еременко был когда-то парикмахером и еще лет пять назад принимал клиентов на дому. Брал он дорого, но один раз, после рождения моего первого ребенка, я у него подстриглась. Мои кудрявые от природы волосы совершенно выпрямились после родов, я не могла узнать себя в зеркале, и Иван Андреевич вернул мне лицо. Помню, я ждала своей очереди, перелистывая альбом по европейской живописи из многочисленного собрания Ивана
Андреевича. Сейчас он не стрижет – дрожат руки.
Зарабатывал Иван Андреевич всегда хорошо, часть денег откладывал, а часть тратил на свою коллекцию часов. Там были и солнечные часы, и водяные, и песочные, и механические, впервые сконструированные Гюйгенсом в 1657 году. Хронометры, наручные, настенные, напольные… Был там и знаменитый брегет – карманные часы с боем, показывающие, кроме часов и минут, числа месяца.
Впрочем, я эту коллекцию не видела, так как Иван Андреевич берег ее от постороннего глаза; но от слуха уберечь ее было невозможно
– часы шли, били, играли мелодии, звенели колокольчиками, – так что всякий, переступавший порог дома, слышал эту странную какофонию, приглушенную замкнутыми дверями комнаты, в которой собственно и хранились драгоценные часы. Иные из них, как рассказал впоследствии Иван Андреевич, были с украшениями из алмазов и сапфиров, в серебряных, золотых и даже платиновых корпусах; но были и представляющие исключительно историческую ценность, принадлежавшие знаменитым в свое время, и даже по сей день, личностям.
В любую погоду, даже в снежную бурю или в грозу с раскатами грома, ровно в десять часов утра Иван Андреевич выходил из дома.
Нашим переулком он шел на Тверскую. В доме за Телеграфом жила подруга Ивана Андреевича, ныне забытая певица Ляля Корчагина.
Ляля не выходила на улицу пять лет, даже по квартире она передвигалась с большой осторожностью, и у Ивана Андреевича был собственный ключ от ее двери. Больше всего он боялся застать
Десятого сентября этого года Иван Андреевич вошел в квартиру
Ляли и не застал никого. Он позвонил соседям. Ему сказали, что
Ляля в больнице, но в какой, им неизвестно. Телефон у Ляли не работал, и Иван Андреевич решил вернуться домой, чтобы обзвонить все больницы. Таким образом, домой Иван Андреевич возвратился на час раньше обычного. В дверях подъезда, украшенных гербом
Советского Союза, он столкнулся с человеком, которого запомнил, более того, человек этот напомнил ему кого-то. От человека исходил странный запах.
Войдя в квартиру, Иван Андреевич услышал тот же запах. Двери заветной комнаты были взломаны. В коллекции не хватало нескольких ценных, небольших по размеру экземпляров.
Грабитель работал аккуратно. Никогда не брал громоздких вещей, то есть всегда выходил налегке. И никто из ограбленных стариков его не видел, кроме Ивана Андреевича. Иван Андреевич оказался, так сказать, первым следом, оставленным преступником.
Восстановить по этому следу облик человека оказалось практически невыполнимой задачей. Иван Андреевич не мог его описать.
Невозможно было добиться ни одной точной приметы. Художник, пытавшийся составить фоторобот, измучился. Ни овал лица, на разрез глаз, ни форму носа, ничего они не могли определить, —
Иван Андреевич отвергал все возможные варианты. Запах этого человека был и запахом ванили, и запахом дешевого «Лесного» одеколона, и запахом трубочного табака, и не отвечал ни одному из запахов, предлагавшихся Ивану Андреевичу на пробу.
Как-то днем, когда дети мои были на уроках, Иван Андреевич позвонил мне по телефону. Он никогда не заходил без предварительного звонка. Я поставила чайник, достала мягкие, час назад испеченные булочки, сливочное масло, абрикосовый джем.
Иван Андреевич пришел, как всегда, гладко выбритый, в свежайшей накрахмаленной рубашке. Мы выпили чаю, поговорили о будущем моих детей, и он изложил свою просьбу. Он хотел, чтобы я помогла ему ясно и четко описать того человека.
Из прежних знакомых оставалось у меня несколько, с кем не прервалась связь. Один из них – артист в своей профессии, человек, малоизвестный даже среди специалистов, за консультацию у которого в другой стране платили бы сумасшедшие деньги. Меня он любил и потому не отказался потратить свое время, выслушать всю историю и обдумать. Разговаривали мы по телефону. Я последовала совету моего консультанта.
В ярком круге настольной лампы мы с Иваном Андреевичем рассмотрели репродукции из многочисленных живописных альбомов, собранных им за всю жизнь. На третий вечер Иван Андреевич узнал грабителя. Он был рыцарем со строгим лицом, только что убившим противника в честном поединке. Рыцарь снял шлем. Заходящее солнце смотрело в его усталое лицо. Портрет был написан пять веков назад.
Именно по этому странному портрету преступник был опознан.
Я подумала тогда, что следы наши появляются в мире задолго до нас. И мысль эта долго тревожила меня и не давала покоя.
Анализ рассказа Елены Долгопят «Часы»
Сегодня, когда советская проза понемногу изживает себя, на замену ей приходит проза российская. Реализм, порой теплый и безмятежный, порой тяжелый и трагический — вот то, что хочет видеть в своих руках читатель. Перед писателями современностями, пишущими в жанре реализма, стоит задача затронуть душу человека, рассказав про жизни людей просто и непредвзято, не сочиняя небылиц и не придумывая откровенно фантастические детали и элементы. Рассказать про жизнь таких же людей, обитающих в такой же стране, думающих так же, как думает читатель — очень тяжело. Однако писатель Елена Долгопят вполне удачно справляется с этой задачей, представляя свой цикл рассказов. По большей части речь в них идет о ней самой — однако колорит героев рассказов, их судьбы и жизненные истории раскрывают перед читателем совершенно новые и захватывающие картины жизни людей в России. Одним из таких рассказов является рассказ под названием «Часы».
Интересная особенность рассказа «Часы» состоит в том, что, несмотря на очень небольшой объем, в произведении описывается сразу много самых разных по своей динамике событий.
Главная героиня, пишущая от первого лица, мечтала стать криминалистом. Проучившись два с половиной года, изучив физику, дактилоскопию, механику, баллистику и множество иных профессиональных дисциплин, она становится домохозяйкой: следит за домом и воспитывает детей. Однако автор совсем не описывает подобный быт как скуку и рутину; героиня принимает свой текущий жизненный уклад, как должное. За этим не только стоит облик ее характера, но и подразумевается череда неописанных событий в ее жизни, которые привели ее к «смене курса». Вот и первый прием Елены Долгопят — хронология событий показано выборочно, так, будто бы источник рассказа — память простого человека о событиях минувших дней. Сами события отрывочны и не структурированы; женщина в рассказе вспоминает только то, что хотела вспомнить и преподнести.
Быт главной героини по домохозяйству пересекается с расписанием ее соседей — стариков. Именно с расписание, потому что каждое их действие подчинено строгому распорядку, что многократно подчеркивается в самом рассказе. Их время прошло, их часы «протикали»…
Первый безыменный персонаж — старушка, работавшая раньше известным звукооператором. Она была знакома со многими популярными людьми, а ее фотографии на стенах пестрят яркими воспоминаниями из молодости. Сейчас старушка «включилась» в свой режим работы, расписанный по часам.
Второй главный герой рассказа — Иван Андреевич Еременко — бывший парикмахер. Еще совсем недавно он продолжал оказывать услуги на дому, наш криминалист после родов даже обращалась к нему за помощью. Будучи некогда мастером своего дела, сейчас Иван Андреевич посвящает большую часть времени своей коллекции часов, в которой хранятся дорогие и чрезвычайно редкие экземпляры.
Кульминация рассказа — некий грабитель, абсолютно безликий, крадет несколько часов из потайной комнаты. О приметах грабителя, которого якобы в дверях дома видел Иван Андреевич, ничего не известно даже самому старику. Уверяя всех, что он чувствовал запах преступника, пожилой коллекционер не может даже узнать или описать этот запах.
Рассказ завершается резко и непонятно для читателя — героиня рассказа «разгадывает» загадку, ответом на которую становится портрет рыцаря 15 века. Как это понимать? Схожесть лица грабителя с лицом рыцаря на художественном изображении — случайность, достойная рассказа, или безумие одного из героев? Право ответа предоставлено читателю.
Примеры похожих учебных работ
Путь исканий смысла жизни Андреем Болконским
Лучшие минуты жизни Андрея Болконского
Классный час «Дерево держится корнями, а человек семьей »
Денис Иванович Фонвизин — интересные факты из жизни
Классный час «Что значит быть современным человеком или портрет моего современника
 messie_anatol
messie_anatol
messie_anatol
Елена Долгопят. Гардеробщик. —
М.: РИПОЛ классик; Престиж книга (Живая линия), 2005.
Лет пять назад я поймала себя на том, что мое нынешнее чтение — это только non-fiction. Fiction неизменно приносит разочарование. Когда-то в “Знамени” не известный мне Олег Ермаков напечатал поразительный по нежности рассказ — там еще был кролик в траве, до сих пор его вижу… И давным-давно я прочитала (тоже в “Знамени”) “Урок каллиграфии” Михаила Шишкина — это было здорово. Позже оба эти автора стали знамениты, написали немало — боюсь, что для других читателей…
Все-таки “своего” автора — Елену Долгопят — я нашла. Это началось с повести “Тонкие стекла” (“Знамя”, 2000, № 11). С тех пор я жду ее тексты, ищу их в Интернете и не перестаю удивляться: каким образом повествования, где происходят события не просто маловероятные, но совершенно фантастические, могут с такой пронзительностью передавать обыденность жизни?
На первый взгляд в прозе Елены Долгопят не просматривается никаких ухищрений. Места действия — пригородные электрички и автобусы, “поселки городского типа” и поселки дачные; дома с холодными террасками, на которых хранят 250 грамм сливочного масла и соленые огурцы; комната с остывающей печкой и кошкой на краю половика; чахлый скверик у вокзала; институтский буфет, где героиня ест яйцо под майонезом; двор с бельем на веревках; полутьма общего вагона, где единственное цветное пятно — апельсины в сетке; чисто прибранная кухня в деревянном доме…
А действия примерно такие: героиня (или герой) берут в магазине кефир и вафельный торт (именно берут, а не покупают), курят, ставят чайник, моют чашки, отпирают и запирают двери и калитки, “вертят” котлеты, прибирают в доме, топят печку, нечасто звонят по телефону, ходят на службу, обедают в столовой или в служебном буфете, моют пол, стирают и гладят…
В общем, жизнь скорее бедная, хоть и не нищая; скорее тихая — герои не спорят, не дерутся, не скандалят (а впрочем — всякое случается); они и высказываются преимущественно по необходимости и немногословно.
То же впечатление немногословности и негромкости оставляют и тексты Елены Долгопят, если попытаться рассмотреть их как целое. Это якобы безыскусная, “голая” проза, мы не найдем там обнажения приема — просто сколько надо, столько и сказано. Если героиня, вернувшись домой, налила воды в чайник, поставила его на газ, вытерла дочиста стол, открыла форточку и закурила, то ровно это автор и имел в виду. Секрет же — в том, почему мне как читателю этого как раз хватает: я вижу, как героиня или герой делают все это каждый день и именно в упомянутой последовательности; их жизни ткутся у меня на глазах.
И все же я не могу объяснить, почему об этом интересно читать.
Быть может, потому, что в какой-то момент в этой обыденности возникает разрыв? И в самом деле: человек приезжает или забредает в обычное место, а оно оборачивается необычным: то загородное кафе на самом деле — временное местопребывание умерших, а они и не подозревают, что умерли; то неожиданным оказывается весь уклад жизни в семье, приютившей художника Ваню (мой любимый рассказ — “Машинист”; в книге “Гардеробщик” его нет). Или вот это: приехала пригородной электричкой студентка в свой институт, на первую лекцию опоздала, решила позавтракать (дома не успела): “взяла чай, свежий, в сахарной пудре изюмный кекс, яйцо под майонезом, кусок черного хлеба”.
Доесть она не успела, потому что умер гардеробщик, который только что взял у нее пальто. Перевернув четыре страницы, мы узнаем, что незнакомый гардеробщик сделал героиню своей единственной наследницей — и это запустит действие, в котором повествование о том, что и в самом деле бывает, будет причудливо сочетаться с историей гардеробщика, который в далеком прошлом был молодым киномехаником, работавшим на сверхсекретном объекте, где пытались записывать человеческие сны — то есть с небывальщиной.
А о том, почему героиня оказалась его наследницей, мы вообще не узнаем, как, впрочем, и она сама — так разве в этом дело?
Создается любопытный эффект: фантастичность фабулы, необъяснимость (или, по меньшей мере, необъясненность) поступков героев как бы существует над сюжетом, разворачивающимся во вполне реальных обстоятельствах. Герои ходят на службу, нянчат детей, моют посуду, стараются по мере возможности обустроить свой быт — большей частью скудный; а “там, в блаженствах безответных”, уже составлен сценарий их жизни.
Так, в рассказе “Роль” герой, типичный “маленький человек”, после долгой безработицы устраивается на хорошую работу, где единственное тяготившее его условие — это dress code, необходимость одеваться, то есть носить хороший строгий костюм. Мы так и не поймем, почему невинная ложь — попытка оправдаться перед начальством за свое нищенское старое пальто, которое герой надел из-за холода, — приводит его не только к увольнению, но к смерти от неслучайной пули. Ради того, чтобы лишить читателя возможности объяснения гибели героя в рамках логики сюжета, автор даже написал заключительный абзац, оправдывающий заглавие этого рассказа — “Роль”, но отрезающий любые возможности интерпретации.
Елена Долгопят — слишком опытный автор, чтобы ненамеренно не свести концы с концами: это один из ее приемов, иногда лобовой, иногда несколько замаскированный. Я воспринимаю эти исчезновения, переходы в иные миры и как бы запланированные смерти как знаки, оттеняющие не столько бренность, сколько непреложность существования мира, где негромкие люди как лакомство “берут” печенье “Юбилейное” и вафельный торт; пьют иногда самогонку, подкрашенную жженым сахаром, а чаще — чай; разогревают тушенку и щи, носят заштопанные, но чистые рубашки, живут в стандартных пятиэтажках или в бедных деревенских домах.
“Гардеробщик” — вторая книга Елены Долгопят. Как и первая (“Тонкие стекла”, Екатеринбург, 2001), она включает повести и рассказы, большая часть которых ранее публиковалась в толстых журналах. Не все они мне кажутся в равной мере удачными — “Физики”, например, наводят на мысль о переходном для автора периоде, когда нащупывается новая манера, но и прежняя еще не отброшена за ненадобностью.
В критических отзывах о прозе Елены Долгопят делаются попытки причислить ее способ повествования к какому-либо из известных жанров. Называют обычно три — фантастика, детектив и мелодрама. С моей точки зрения, все эти упоминания требуют слова якобы, а уж кто здесь и вовсе ни при чем — так это Борхес и Кортасар, с которыми Долгопят с известной лихостью сравнили в крайне неудачной аннотации к книге “Гардеробщик”, обложка которой также имеет с книгой мало общего.
Елена Долгопят дебютировала в 1993 году и с тех пор практически ежегодно печатала свои повести и рассказы в “толстых” журналах, так что не стоило в аннотации представлять ее как “молодую московскую писательницу”. Проницательный критик А. Агеев особо отметил ее еще в 2001 году, написав в “Русском журнале”: “Тексты богатые, соблазнительно многослойные, в них есть что анализировать” (http://www.russ.ru/krug/20010704.html)
Там же он задал шутливый вопрос самому себе: что еще я могу сделать для прославления Елены Долгопят? И сам на него ответил: прочитай и посоветуй товарищу.
Лиля Панн
Елена Долгопят. Гардеробщик; Елена Долгопят. Фармацевт
Елена Долгопят. Гардеробщик. Повесть. — Новый мир, № 2, 2005;
Елена Долгопят. Фармацевт. Маленькая повесть. — Новый мир, № 4, 2004.
Елена Долгопят началась для меня с рассказа “Литература”*. Неразвязанный пока узел русской культуры — уже не священный, но все еще брак жизни и литературы — ныл как старая рана и в образе одинокой, бесприютной учительницы литературы на пенсии, путающей литературу и жизнь, и в неправдоподобном сюжете: проводник поезда дальнего следования, делающего среди ночи остановку в его родном городе, наталкивается в пристанционном ресторане на свою школьную учительницу и тут же забирает ее с собой, привозит в служебном купе в Москву, с тем чтобы культурная старушка хотя бы день (вечером ему в обратный путь) “подышала московским воздухом”, развлеклась. Как они едут, как проходит этот день в Москве, как старушка возвращается к прежней жизни — в этом уже никакого неправдоподобия нет, есть одна голая правда жизни. А правду сюжета здесь надо понимать по Тредиаковскому буквально: “…поэтическое вымышление бывает по разуму так, как вещь могла и долженствовала быть”. Курсив не мой, но я его подчеркиваю, поскольку в художественном космосе Елены Долгопят ярче всего для меня сияют те события, которые маловероятны, но все же могут произойти. Иначе их долженствование для меня не абсолютно.
В “Искусстве при свете совести” Цветаева говорила о данных строках, отсутствие которых в стихах — примета лжепоэзии. Целиком данные стихотворения вообще наперечет, тут и разброс суждений невелик. Казалось бы, целиком данная проза должна встречаться реже поэзии из-за своего относительного многословия, но это не так: в прозе фразы могут и не быть данными, но таковыми должны быть сюжеты (если исключить из рассмотрения вырожденный случай бессюжетной прозы) и, в результате, персонажи. То, что порядок именно таков, подтверждается в сопоставлении повестей “Фармацевт” и “Гардеробщик”; еще выпуклее — в сравнении двух частей, из которых состоит “Гардеробщик”.
В “Фармацевте” подросток Васенька, с детства одержимый непонятным желанием смешивать лекарства и пробовать непредсказуемые смеси, попадает в лапы наркоманов, избитый ими до полусмерти, бежит без копейки из своего убогого поселка в Москву, там его подбирает на улице прохожий… работник Музея кино. В музее Васенька приживается на должности уборщика, боясь выйти за порог, дабы не потерять приюта. То есть находится 24 часа в сутки. В этой маловероятной, но возможной ситуации Васенька выживает. Васенька, не понимающий ни языка кино музейного уровня, ни тем более рафинированной культуры сотрудников музея, — еще один Каспар Хаузер, выросший среди зверей (на дне провинции) и внезапно очутившийся среди людей (культуры). Если читатель знает, что Елена Долгопят работает в московском Музее кино, и если он знаком со знаменитой немецкой легендой по фильму Вернера Герцога, то такой читатель, возможно, задастся вопросом: не совершенное ли это произведение киноискусства вдохновило писательницу на меряние силами с великим кинопоэтом в создании собственной версии бродячего сюжета? Больно уж “Фармацевт” жгуч и легок, “по-герцогски”. Вдохновлялась Герцогом Елена Долгопят или нет, в “Фармацевте” метафоры кино/киномузея работают с полной отдачей на архетипическую ситуацию “без языка” в пограничном варианте: человек — подкидыш во Вселенной, будь он Васенькой из богом забытого селенья или французской кинознаменитостью. Тема ненова еще со времен Экклезиаста, вариация же в “Фармацевте” незабываема.
“Гардеробщик” поначалу не хуже. Оторваться нельзя еще на стадии экспозиции. Молодая, одинокая студентка живет в Подмосковье и на электричке ездит в московский вуз. “Я вошла в институт, когда уже началась первая лекция. В фойе было пусто. Гардеробщик по обыкновению читал книгу в газетной обертке. Я сняла пальто, отряхнула от снега, забросила на барьер. Гардеробщик, не взглянув на меня, закрыл книгу, спрятал на полочку за барьером. Встал, принял пальто. Только-только открылся буфет. Я взяла чай, свежий, в сахарной пудре, изюмный кекс, яйцо под майонезом, кусок черного хлеба. Дома я не завтракала”.
Загадки этого рудиментарного реализма создают “саспенс” для критика. Дальше — не только для него: старик-гардеробщик между вешалками с пальто испускает дух, а через несколько дней студентку оповещают, что этот совершенно чужой человек ей завещал свое имущество. Женский детектив? Ничуть. Не женская проза.
Почему гардеробщик оставляет наследство студентке, которую видит только в очередях к своим вешалкам? Секрет выдан в вопросе: гардеробщик видит. И слышит — по обрывкам разговоров, доходящих до него из очереди, ему не так уж трудно выбрать того, кто с вниманием примет его скромный подарок. Совсем бедный, окажется: домашняя рухлядь, какие-то дешевые фарфоровые фигурки. Золота в них не окажется, только… кино. Обрывки кинолент неизвестного содержания.
Самые сильные страницы повести не те, где показываются странные кинокадры (похожие на сны не случайно), а те, где рассказчица посещает квартиру умершего, завораживается чужой жизнью только потому, что она чужая (гардеробщик правильно прочел студентку), собирает крупицы сведений об одиноком старике. Несентиментально, но и не на нулевом градусе, столь нами ценимом, а на совершенно естественном дыхании описаны такие же сирые, как и гардеробщик, уборщица, буфетчица, жэковский юрист, участковый, соседка, два-три еще как-то связанных с гардеробщиком человека. И не связанных. И не человека — кошка, к примеру. Обыденность при этом не поэтизируется, просто есть как есть. Не оттого ли, что она соседствует со своей непостижимостью, так нетривиальна, жива эта проза? Не оттого. Краткость и точность слова, эти сестры таланта тоже не проговариваются, в чем секрет притягательности голоса Елены Долгопят. Голос плавный и негромкий словно опасается разбить хрупкие, как и ее герои, сюжеты — “тонкие стекла”**, сквозь которые она наблюдает человека и его непрочный мир.
Нужно ли тогда такому писательскому дару ступать на территорию сверхъестественного? Можно, если не глохнет музыка вымыслов, без которой невозможен выход на уровень музыки смыслов. И те вкрапления “мистики”, которыми отмечен “Гардеробщик”, хотя и не принадлежат к его взлетам, музыку вымыслов не глушат. Расправляется с музыкой как первого, так и второго уровня разворот сюжета в сторону повышенной занимательности, вернее, развлекательности — занимательность и так была на высоте (занимательная математика — тут очевидный аналог).
К студентке попадает рукопись гардеробщика. Вторая часть повести — это его воспоминания о деревенском детстве, о переезде в 1930-х годах в Москву, о работе киномехаником. Старая песня. Но добротная, как говорится, литература, а местами и оставляющая занозы в уже размягченном читателе. В целом же никакого сравнения с первой частью. И эта несравнимость нарастает с обострением сюжета. НКВД забирает киномеханика на секретную кинофабрику, где снимаются… сновидения, в буквальном смысле реальные сны. Одни люди, опутанные проводами, спят, другие ухитряются извлечь из них сны на кинопленку, а наш киномеханик показывает отснятый материал собирателям “в жестяные банки снов советских граждан”. Неожиданно читателя перекинули в жанр научной фантастики, и хотя ненадолго, тем больше в нарушение законов художественного пространства. Читатель ощутимо осквернен. Это не его снобизм, а его боль.
Старая песня: 1937 год, аресты, киномеханик бежит, исчезает, в 1955 году возвращается, работает дворником, на пенсии нанимается гардеробщиком. Повествование сделало круг, и, если бы не первая часть, не перейти нам на тот виток спирали, где человек человеку мир. Хотя жизнь киномеханика показана много подробнее жизни гардеробщика, мертвого на большей части сюжетного пространства, персонаж-гардеробщик (как и “фармацевт”) неимоверно живее киномеханика. Такая вот зависимость персонажа от сюжета.
Повесть “Гардеробщик” радует ростом дара прозаика, но и огорчает подменой дара расчетом или поисками выхода из “литературной резервации”. В начале было нешумное, достойное признание таланта Елены Долгопят критиками (Агеев, Губайловский, Каспэ), а об успехе у читателей сужу по переизданию через год сборника рассказов и повестей “Тонкие стекла”, вышедшего в екатеринбургской “У-Фактории” в 2001-м. Исчезновение в переиздании толкового предисловия Олега Аронсона, видимо, идущего вразрез с аннотацией на обложке: “Эта книга — Хичкок, навзничь прошитый Достоевским” (аннотацией не менее масскультурной, чем известные усы над улыбкой Моны Лизы), выдает ставку издателя на читателя не столько широкого, сколько задуренного. Писатель за издателя не в ответе, но Елена Долгопят и сама делает ненужные жесты. Вдруг кладет свой магический смычок и пририсовывает усы к музыке.
**Название повести, с которой Е. Долгопят дебютировала в “Знамени” № 11, 2000.


 messie_anatol
messie_anatol