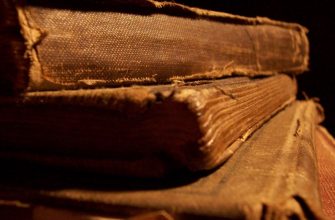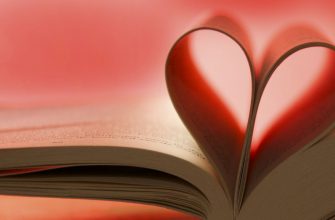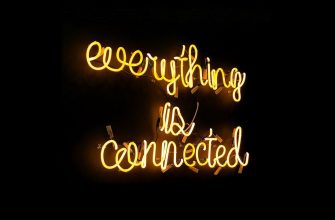Краткое содержание рассказов Лескова
Жемчужное ожерелье
Трое друзей пьют чай и разговаривают о том, как бедна стала литература. Речь заходит об однообразии святочных рассказов. Один из друзей решает рассказать историю, которая произошла с его братом. Читать далее
Запечатлённый ангел
Во время непогоды на постоялом дворе укрывается много путников. В доме душно, жарко, плохо спится. Один из постояльцев замечает, что человека водит ангел, как и его самого когда-то. Путники просят рассказать эту историю. Читать далее
Зверь
Рассказчик, тогда ещё пятилетний мальчик, гостил у своего дяди в Орловской губернии. Не только крепостные крестьяне, но и члены семьи боялись его гнева. Он никому не прощал даже малейших промахов. Читать далее
Кадетский монастырь
Рассказчик пишет о том, что он намерен доказать существование праведников на Руси. Причем, по его мнению, такие люди встречаются даже в местах, которые не располагают к честности и принципиальности. Читать далее
Лев старца Герасима
Поучительная история о богатом и успешном старике Герасиме, который после болезни раздал все свои богатства нуждающимся и отправился в пустыню. Именно в пустыне, он осознал насколько неправильно, он проживал свою жизнь. Поселился Герасим в небольшой норе Читать далее
Левша кратко и по главам
Эта выдающаяся повесть Николая Лескова, была опубликована в одна тысяча восемьсот восемьдесят первом году, и состоит она из двадцати глав. Читать далее
Леди Макбет Мценского уезда
Молодая купчиха Измайлова Катерина Львовна одиноко тоскует в полупустом доме, в то время как супруг вечно проводит время на работе. Она влюбляется в юного и красивого приказчика Сергея. Читать далее
На краю света
В этом произведении описана подлинная история из жизни и работы архиепископа Иркутского, а затем и Ярославского, Нила, рассказанная прозаиком публицистом Николаем Семеновичем Лесковым. Читать далее
Несмертельный голован
Рассказ «Несмертельный Голован» входит в цикл произведений Николя Семеновича Лескова «Праведники». Целью создания автором данного цикла было выявить и показать читателю наличие в русских людях лучших черт Читать далее
Обман
Начиналось все вполне обычно.Их полк был поселен в одном из румынских селений.Военные начали ходить к помещику местному.В карты поиграть, да алкоголь попить.Ну и пусть бы с ним только помещик за эти похождения брал деньги с них и в карты обыгрывал. Читать далее
Однодум
Главный герой рассказа Лескова «Однодум», Александр Афанасьевич Рыжов родился в бедной мещанской семье. Отец мальчика умер почти сразу же после рождения сына. Читать далее
Очарованный странник
Повесть была написана в 1872-1873 годах. Но все-таки мысль о написании появилась в 1872 году, после того как писатель побывал в Валаамском монастыре Читать далее
Приведение в инженерном замке
Поговаривали, что в здании, где ранее располагался Павловский дворец живут приведения. Сейчас этот дворец именуют Инженерным замком, который обжили кадеты. Читать далее
Пугало
Главным героем произведения является мужчина по имени Селиван, которого людская молва волею случая приравняла к разбойникам и колдунам, превратив жизнь мужчины в пугало по отношению к окружающим. Читать далее
Старый гений
В этом рассказе говорится о простой доброй старушке, которая решила помочь столичному франту. Он зарекомендовал себя как человек порядочный, принадлежал к одной из самых известных фамилий, поэтому добрая женщина Читать далее
Тупейный художник
Рассказ «Тупейный художник» был написан не просто так. Его написанию предшествовал рассказ нянюшки младшего брата Лескова, которая в прошлом была актрисой орловского театра Читать далее
Христос в гостях у мужика
Главному герою было 18 лет, в то время когда к ним в деревню приехал Тимофей Осипович. Человек этот был замкнутым в себе, почти не выходил из дома, а виделись с ним в основном слуги. По округе пошли слуги Читать далее
Человек на часах
Действия начинается с описания теплой погоды посреди зимы. Во времена Крещения в 1839 году погода выдалась странно теплой. Так тепло было, что на Неве лед начинал таять. Один солдат, который в этот день был часовым Читать далее
Об авторе
Лесков Николай Семенович великий русский самобытный писатель, сумевший показать русский колорит. Он писал и рассказы для детей. В семье полицейского в Орловской губернии в 1831 году родился первенец. В семье кроме него родилось ещё четверо детей. Пока мальчику не исполнилось 8 лет, он жил у родственников, затем его забрали домой. У него хорошо была развита способность, все схватывать на лету.
В 10 лет его отправили в гимназию. Но его обманули, он учился в течении пяти лет, а документ дали о том что он отучился два года. Его характер не позволил найти общий язык с учителями. Николая папа устроил работать в канцелярию уголовного суда. Но в 1848 году у него умирает отец, и у него происходит пожар, в котором погибло всё его имущество. Ему пришлось смиренно идти к дяде за помощью. Он у него был врачом и жил в Киеве, и дядя помогает ему.
Он активно шел вверх по карьерной лестнице. От помощника к регистратору, затем столоначальник. Его работа позволила ему собрать огромный запас наблюдений. Он с интересом изучал живопись, архитектуру, религию, журналистику. В начале своей литературной деятельности, он показал себя как критик. Шестидесятые годы XIX века для него были звездными. В 1860 году вышли его статьи в журналах, под вымышленным именем М.Стебницкий.
В 1862 году он путешествует по Чехии, Украине, Польше. Пишет рассказ «Погасшее дело». В 1863 году в печать выходят повести «Овцебык», «Житие одной бабы». В 1864 году выходит первый роман «Некуда», в 1865 году выходят романы «Леди Макбет Мценского уезда», роман «Обойденные», а в 1866году повесть «Островитяне» В 1881 году Лесков пишет своё известное всем произведение «Левша». Раскрыв суть русского человека, во всей красе. По указу императрицы его включают в комитет Министерства просвещения. Но Лесков проникся идеями радикалов, за что был исключен из комитета. В последних работах «Зверь» и «Тупейный художник» показаны сущность чиновников и духовенства. В 1894 году он написал повесть «Заячий ремиз», но напечатали её только когда свергли царскую власть. Николай Лесков умер от астмы, в 1895 году в Петербурге.
(По древним преданиям)
Этот анекдот совершенно древний. Такой случай нынче несбыточен, как сооружение пирамид, как римские зрелища – игры гладиаторов и зверей.
Очень давно в Александрии египетской, при римском господстве, жил знаменитый и славный художник, по имени Зенон. Он с необыкновенным, тонким искусством делал из серебра и золота роскошную утварь и художественные вещи для женских уборов. По роду своих занятий он назывался «златокузнец». Происходило это в то время, когда в Александрии, в тесном друг с другом соседстве и в близком общении по делам, жило много людей разных вер, и всякий почитал свою веру за самую правильную и за самую лучшую, а чужую веру не уважал и порицал. Были также и такие, которые, чтобы жить в мире и тишине, не оказывали свою веру, а держали ее в себе тайно и ни в какие споры не вступали.
Зенон златокузнец был потаенный христианин, но община александрийских христиан его своим не считала, и сам он держался от нее в отдалении. Ему было удобнее не сообщаться, потому что, наученный христианству каким-то сирийским зашельцем в Египет, Зенон не о всем мыслил совершенно так, как принято было без рассуждения другими христианами в Александрии. Поэтому и те немногие из открытых христиан, которые знали Зенона, почитали его стоящим на ложном пути; он к ним насильно не шел, но никогда с ними и не спорил, а жил сам по себе в отдалении, в тихом, прохладном загородном урочище за палестрою, на дынных огородах.
По художеству, которое тогда называлось «златокузнею», Зенону не было равного – не только в Александрии и в Фивах, но и в целом Египте. Браслеты, стяжки и головные уборы работы Зенона славны были даже в Антиохии. Все именитые женщины обоих этих роскошных городов наперебой непременно хотели иметь украшения, сделанные этим искусным мастером. Евреи из Антиохии делали ему большие заказы и, забирая себе его «златокузню», увозили его художественные произведения в свой город и там продавали по чрезвычайно высокой цене и наживали большие выгоды. Зенон был очень досуж и трудолюбив, но при всем том он не успевал исполнять всех делаемых ему заказов, и недосуг его простирался до того, что он не имел даже времени ни для каких удовольствий, и часто ему некогда было даже о себе подумать. Ему шел уже тридцать первый год, и он имел хороший достаток для того, чтобы жить безнуждно с семьею, а он все еще ходил холостой, был совершенно одинок и жил в своем уединенном, но хорошо устроенном доме за дынными огородами. В прислуге у него для помощи был один непомерной силы персианин, который был ему беззаветно преданным и верным слугою, хотя сам этот человек был язычник и ходил совершать таинства Митры.
Зенон был домосед и на свободе любил читать и размышлять о высоких вопросах. Проработав целый день, он только вечерами выходил за порог своей мастерской, садился на каменную скамейку под широколистным платановым деревом и отсюда любовался вечерним закатом красного солнца за купы деревьев, читал сочинения о высоких предметах или катался по Нилу, сам управляя своею баркой под клетчатым шелковым парусом. По всем домашним делам Зенона в город ходил и справлял их персианин, однако в Александрии все знали Зенона, не исключая лиц именитых, и многие почитали за честь быть с ним в знакомстве, так как он в своем роде тоже был знаменит, – но Зенон был скромен и от почета всегда удалялся. Богатые щеголихи Александрии шли наперебой одна перед другою, чтобы иметь Зенона себе для услуг, и платили очень дорого, лишь бы только перещеголять друг друга, но их было много, а Зенон один, и потому это не помогало. Всем Зенон не мог услужить.
Тогда одна знатная дама вздумала присвоить себе искусство художника иначе.
В Александрию приехала из Антиохии одна молодая и чрезвычайно красивая вдова, по имени Нефорис, или Нефора. Она была очень богата и до того избалована, что не знала меры своим прихотям и не переносила никакого возражения и отказа. Воздерживаться и останавливаться в осуществлении каких бы то ни было желаний было для нее так несносно, что она об этом не хотела и думать, а цель ее, по приезде в Александрию, прежде всего заключалась в том, чтобы превзойти своею пышностью всех самых роскошных александрийских красавиц. Отказаться от этого суетного желания Нефора не согласилась бы ни за что на свете, так как вся Антиохия знала ее за самую изящную красавицу, которая своею роскошью и увлекательностью затмевала собою всех иных прекрасных женщин, блиставших красой и нарядами на празднествах в роще Дафны. Наряды Нефоры были прелестны, но чтобы сделать их еще более замечательными, она захотела иметь самый лучший, выкованный из золота убор, какой носили щеголихи в Александрии, но только непременно, чтобы он был лучше, чем все подобные уборы, какие до сих пор были сделаны. Она послала за Зеноном, но Зенон отказался прийти, сказав, что ему недосужно. Нефора послала за ним второго посла и велела ему обещать Зенону такую плату, какую сам он захочет, но Зенон ответил послу: «Скажи твоей госпоже, что я работаю, сколько могу, и сверх силы моей не принимаю заказов. Всем угодить я не успею, а наблюдаю очередь, и никакая богачка не может предложить мне ничего такого, что заставило бы меня отступить от справедливого порядка».
Когда посланные к Зенону во второй раз возвратились без успеха и передали ответ художника Нефоре, то эта избалованная и непривычная ни к каким возражениям модница впала в ужасную гневность и дошла до такого безумия, что велела подвергнуть безжалостному наказанию рабов, которых посылала к Зенону, а для себя приказала сейчас же оседлать белого мула и приготовить ей длинное и густое покрывало, в которое могла быть завернута вся ее фигура с головою.
Нефорис решилась сама отправиться к Зенону и во что бы то ни стало принудить художника сделать для нее самую красивую золотую диадему с самыми тонкими и изящными цепочками, скованными легко и усаженными перлами одной величины и одного цвета.
Оба приказания Нефоры были исполнены в точности: рабы ее, ходившие без успеха к Зенону, были наказаны ударами воловьей жилы, а ей был подан белый мул, покрытый роскошным ковром, с уздою из переплетенной широкой зеленой и желтой тесьмы, с золотистою сеткой на челке и с длинными кистями вместо вторых поводьев. У этих поводьев стоял немой сириец из Тира, в ярко-красной, до пят его достигавшей, длинной одежде.
Нефора села на своего мула, и красный сириец повел красивое животное за поводья, не зная, куда его госпожа отправляется. Он только оглядывался на свою госпожу при поворотах и распутьях и следовал мановению ее опахала.
Гора. Египетская повесть. Примечания.
Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, том десятый, СПб., 1890, стр. 1—102.
Впервые опубликовано в журнале «Живописное обозрение», 1890, № 1—12, с иллюстрациями И. Е. Репина, С. Соломко и др. художников. Затем «Гора» была напечатана отдельным изданием («Гора. Роман из египетской жизни Н. С. Лескова», СПб., 1890).
Повесть писалась в 1887—1888 годах и должна была появиться в свет в ноябрьском номере московского журнала «Русская мысль» за 1888 год под своим первоначальным заглавием «Зенон Златокузнец». Однако редакция «Русской мысли», усмотрев в изображенном там «патриархе» чуть ли не портрет московского митрополита Филарета Дроздова, решила обезопасить себя от неприятных последствий и без ведома автора направила повесть в духовную цензуру. Духовная цензура наложила на повесть свое veto (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, М., 1954, стр. 560). Впрочем, сам Лесков излагает это событие несколько иначе. В письме к Л. Н. Толстому от 1 октября 1888 года он писал: «Поп, которому давали читать, будто «открыл сходство между патриархом и Филаретом», после чего будто «Русск М » «ахнула и сама отказалась печатать» («Письма Толстого и к Толстому», М.—Л., 1928, стр. 72; письмо это здесь ошибочно датировано 1889 годом). Начавшееся уже печатание повести было приостановлено. Вскоре Лесков узнал, что во всей этой истории определенную роль сыграл его могущественный враг, начальник Главного управления по делам печати Феоктистов. 20 ноября 1888 года Лесков пишет В. А. Гольцеву: «Сейчас. был у меня Вк. Мх. (Вукол Михайлович Лавров.— А. Б.) и передал мне, в какое положение поставлен «Зенон». Это положение, без сомнения, есть вполне безнадежное. Меня крайне удивляет ожидание что-то выиграть здесь, когда проиграно в Москве. Известно ведь, что Ф имеет ко мне особую ненависть, и притом сугубую, так как притеснением меня он доставляет удовольствие П цеву и г-ну Ф пову. Следовательно, ожидать хорошего просто смешно и наивно»
(«Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 400-401). 24 ноября того же года Лесков писал А. С. Суворину о Феоктистове: «Цензурное преследование мне досадило до немощи. Вы знаете, за что это? Это все за две строки в «Некуда» назад тому 25 лет. Не много гордости и души у этого человека, — а другие ему «стараются. » (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 139). Однако эта неудача с повестью обескураживает Лескова только на первых порах; он начинает борьбу за появление ее в печати. Уже в цитированном письме к Гольцеву он просит «прислать. хоть в полосах экземпляр «Зенона» без выпусков, которые. не нравятся и которые напрасны, ибо они не могли изменить общего духа и направления повести» («Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр.401). Лесков намеревался устроить «Зенона Златокузнеца» в петербургском журнале «Неделя», минуя, таким образом, московскую цензуру. Почти одновременно с этим он печатает в газете «Русские ведомости» «письмо в редакцию» «О повести Зенон Златокузнец», в котором пытается рассеять неблагоприятные о ней слухи и таким путем повлиять на цензуру, доказать ей беспочвенность ее нападок. Лесков раскрывает в этом письме замысел повести, ее источники и характеризует ее содержание в целом.
«Некоторые грустные и для меня, как для писателя, весьма многозначащие обстоятельства, — пишет Лесков, — побуждают меня просить редакцию «Русских ведомостей» напечатать от меня нижеследующие строки.
В августе 1888 года в петербургских газетах было помещено известие, что я написал повесть из первых веков христианства, под заглавием «Зенон Златокузнец». Потом вскоре же среди разных других литературных новостей было упомянуто, что повесть «Зенон» приобретена редакциею журнала «Русская мысль», который издается в Москве, и что повесть эта будет напечатана в осенних книжках этого журнала.
Все три известия были верны, но одно из них — именно последнее — осталось невыполненным, и это подало повод к таким рассказам и толкованиям, которых я не могу оставить без разъяснения.
В кружках литературных и среди читателей, интересующихся тем, что нового является в литературе, быстро распространились и упорно держатся два крайне неприятные мне известия. Говорят, будто в повести «Зенон Златокузнец» под вымышленным именем представлено мною одно недавно умершее лицо русского происхождения, жившее и действовавшее в Москве, и будто это повело к затруднениям, расстроившим мои отношения с редакторами журнала «Русская мысль», почему повесть «Зенон» и не напечатана в этом журнале.
Оба эти сведения совершенно ложны: никакого охлаждения или разрыва в отношениях моих с редакциею «Русской мысли» не происходило. Отношения наши нынче так же дружественны, как они были до сих пор и каковыми я желаю сохранить их навсегда. Во всей повести «Зенон Златокузнец» нет ни малейшего намека на какое бы то ни было известное «русское лицо», и никто не может указать ни в одном из лиц повести даже случайного сходства в указанном роде. Повесть «Зенон» относится к третьему веку христианства в Египте. Она, если можно так выразиться, есть повесть обстановочная. Тема ее взята из апокрифического сказания, давно признанного баснословным, 1 а историческая и обстановочная ее стороны обработаны по Эберсу и Масперо и по другим египтологам. 2 Ничего представляющего какие бы то ни было современные происшествия в России, в Европе или вообще на всем белом свете — в повести моей нет. Повесть просто представляет интересное старинное происшествие. Герой повести «Зенон» — художник из Александрии, а героиня Нефорис — богатая вдова из Антиохии, влюбленная в Зенона и обращаемая им в христианство. Все событие происходит в конце третьего или начале четвертого века в самом городе Александрии и частью на утесе Адер около одного из гирл реки Нила. Никаким сопоставлениям с русскими нравами и положениями там нет и места — в чем я и свидетельствуюсь редакциею «Русской мысли», которой хорошо известно содержание повести «Зенон Златокузнец». Лучшим же подтверждением моих слов может послужить немецкий перевод «Зенона», который сделан с корректурных листов и появится в немецком журнале» 3 («Русские ведомости», 1889, № 12, 12 января).
Письмо, однако, остается «гласом вопиющего в пустыне», а очередная попытка напечатать «Зенона» в «Неделе» приносит новое и опять неожиданное разочарование. Напуганный толками о повести, идущими из Москвы, редактор «Недели» П. А. Гайдебуров предлагает Лескову неприемлемые условия. Друг писателя, А. И. Фаресов, в связи с этим писал в своих воспоминаниях: «. Лесков передал повесть П. А. Гайдебурову в «Неделю», но тот приехал к автору просить «пожертвовать тенденцией».
— Такое прекрасное описание египетской жизни, — говорил он. — Обстановка, природа, обычаи — удивительно художественно воспроизведены; но для сохранения повести необходимо пожертвовать тенденцией. Мне хочется напечатать ее, но в этом виде, как возьму я ее в руку, она жжет мне пальцы.
— Отымите от рассказа тенденцию,— отвечал Лесков, — от него ничего не останется. Выйдет глупая басня. Я именно и писал его затем, чтобы человек своей верой мог увлекать людей, двигать горами, как Зенон готовностью умереть за веру тронул и сдвинул чужое сердце. Мне только это и мило в моем рассказе, а вы меня просите пожертвовать тенденцией и оставить только рамки рассказа и краски.
Так они и разошлись. По уходе Гайдебурова Лесков сказал:
— Настоящий литератор никогда не посоветовал бы сохранить художественность без идеи. » (А. И. Фаресов. А. К. Шеллер, СПб., 1901, стр. 135—136.)
Лишь по прошествии полугода был найден выход из положения. Повесть рискнул напечатать в журнале «Живописное обозрение» его редактор А. К. Шеллер. Но при этом Лесков, в целях маскировки, должен был изменить заглавие повести и дать другие имена основным действующим лицам (Зенон стал называться Фовелом, а Нефора — Атоссой). В таком виде редактор «Живописного обозрения» послал повесть в петербургскую цензуру, которая не узнала в ней нашумевшего «Зенона Златокузнеца» и пропустила в печать. Новое название произведения впоследствии уже не менялось, а герои получили прежние свои имена только при включении повести в десятый том Собрания сочинений. Восхищенный находчивостью А. К. Шеллера и феноменальной тупостью и непоследовательностью цензуры, Лесков в письме от 5 октября 1889 года сообщал В. А. Гольцеву: «Кстати прибавлю, что Зенон под иным заглавием пропущен к печати предварительною цензурою, весь и без всяких сокращений. Вот что делается в нашем благоустроенном государстве!» («Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 403).
В связи с заявлением Лескова о том, что в его произведении нет места «сопоставлениям с русскими нравами и положениями» (см. выше), нельзя не вспомнить о заметке Ив. Розанова «Еще о лесковиане», порождающей путаные представления как о цензурной истории повести, так и о ее содержании в целом. Ив. Розанов полагает, что запрещение повести вызвано было описанными в ней погромами христиан, в которых цензура усмотрела намек на еврейские погромы в России. Однако данные, привлекаемые Ив. Розановым для доказательства такой точки зрения, не выдерживают критики. Ив. Розанов неправильно прочел автограф Лескова на экземпляре отдельного издания повести «Гора», хранящемся в Историческом музее в Москве. Вот автограф Лескова: «Эта повесть под заглавием «Зенон Златокузнец» была вырезана в 1888 году из журнала «Русская мысль». Н. Лесков». Нечетко написанную восьмерку Ив. Розанов принял за тройку; таким образом, вместо 1888 года появился год 1883, а вслед за этим и заманчивое, но явно неубедительное заключение. «Как раз перед 1883 годом, — пишет Ив. Розанов, — когда роман должен был быть напечатан в «Русской мысли», в 1881 и 1882 годах по России прокатилась волна страшных еврейских погромов. Аналогия между тем, что рассказывалось в романе, и тем, что было у всех на глазах, была слишком очевидна, и роман был запрещен.
В 1890 году впечатления от этих погромов сгладились, новых погромов не было, роман перестал казаться опасным и был разрешен под другим заглавием» («Книжные новости», 1937, № 23—24, стр. 108). В действительности же повесть «Гора» и писалась и проходила цензуру в относительно спокойное время.
В Институте русской литературы Академии наук СССР хранится корректура повести «Гора». По всем признакам, это корректура несостоявшегося издания в «Русской мысли» (заглавие здесь еще старое — «Зенон Златокузнец. Историческая повесть (по древним преданиям)»; эпиграфа нет, герои носят свои первоначальные имена). Сравнение корректуры с печатным текстом показывает, что в процессе дальнейшей работы Лесков освобождал повесть от излишних длиннот, повторений, утяжеляющих ее многочисленных описаний местных обычаев, верований, нравов и т. д. Большая часть сокращений, таким образом, была оправдана соображениями художественности. Но при этом с некоторыми отрывками Лесков расправился, пожалуй, излишне сурово. После последнего абзаца тридцать второй главы, известной по печатному тексту, в корректуре шло довольно большое описание разговора христиан с правителем, а также описание того, что за этим последовало. Начало этого описания по-лесковски живо и остроумно: «Несколько человек из тех, которые дали свои драгоценности епископу, приходили объяснять правителю, что с имуществом их вышла ошибка, но правитель всем им ответил, что он ничего не может поправить и что ошибаться не стыдно, ибо и Гомер ошибался. Не ошибается один ручной эфиопский лев, который лежит у ног правителя и наверняка растерзает каждого, на кого ему укажет его господин».
Выше отмечено, что основной причиной запрещения повести в журнале «Русская мысль» было убеждение цензуры в схожести «патриарха» с Филаретом Дроздовым. Сопоставление, в этой связи, корректуры со всеми печатными текстами показывает, что Лесков дипломатично учитывал это настроение цензуры. В самом начале тридцать второй главы происходит такой разговор между правителем и патриархом:
«— Извини меня, я не был уверен, что твоя святость уже дома.
— Наше смирение всегда близко и всегда далеко от того, кто чего заслуживает, — ответил патриарх.
— Знает, конечно, твоя святость, какой все приняло оборот. »
«— Да, я ошибся, и теперь прошу твою святость — давай помиримся: мы можем быть очень полезны друг другу.
— Ну, мне кажется, что нашему смирению теперь уже никто не нужен.
— А пусть твое всеблаженство вспомнит, что и Гомер ошибался. Патриарх это вспомнил».
Последней фразы, напоенной сарказмом, и почтительно-ядовитых эпитетов и определений «твоя святость», «наше смирение», «твое всеблаженство», нет ни в тексте «Живописного обозрения», ни в тексте отдельного издания; но, однако, нечто подобное еще есть в корректуре. А поскольку это так, становится правомерным вывод о том, что приглушенно-сатирическая трактовка образа патриарха, характерная для текста повести в «Живописном обозрении» и в отдельном издании, вызвана была упомянутым выше заключением цензуры. Лесков счел необходимым временно смягчить убийственную характеристику патриарха.
Критические отклики современников на появление повести Лескова в печати были, как правило, положительны. А. И. Фаресов отмечал, что с повести «Гора» «начинается. ускоренное сближение» Лескова с Л. Н. Толстым. «Когда эта повесть появилась в печати, — писал Фаресов, — Толстой отметил в ней значение идеи о том, что «вера двигает горами», но что сдвинуть языческие верования гораздо труднее, чем обычную гору, и что это «чудо» должно быть в нравственном подвиге христиан. » (А. И. Фаресов. Умственные переломы в деятельности Н. С. Лескова — «Исторический вестник», 1916, № 3, стр. 803). В рецензии, посвященной выходу в свет отдельного издания повести, критик С. Трубачев писал о ней: «Интрига романа очень проста, да и не в ней дело: дело в симпатичной идее, положенной в его основу и воплощенной в живых образах. Автор хотел показать превосходство любви чистой, духовной, христианской перед любовью мутной, чувственной, языческой, — любви самоотверженной, деятельной перед любовью эгоистической, эпикурейской. » («Исторический вестник», 1890, июнь, отдел «Критика и библиография», стр. 679). Переходя далее к оценке чисто художественных достоинств повести, Трубачев продолжал: «Написана «Гора» с мастерством, присущим г. Лескову в обработке легенд и обличающим крупного художника. Простой, гибкий, образный и вместе с тем музыкальный язык удивительно гармонирует с благородством и глубиной содержания; картины египетской языческой жизни являют собой эффектные контрасты с главной идеей произведения; герой и героиня психологически очерчены мастерски, хотя и несколько эскизно. Вообще, повторяем, роман «Гора» — крупное художественное произведение» (там же, стр. 680). Отзыв начинающего критика настолько понравился писателю, что он поспешил поделиться своими впечатлениями с редактором «Исторического вестника» С. Н. Шубинским. «Гора» столько раз переписана, — признается в этом письме Лесков, — что я и счет тому позабыл, и потому это верно, что стиль местами достигает «музыки». Я это знал, и это правда, и Трубачеву делает честь, что он заметил эту «музыкальность языка». Лести тут нет: я добивался «музыкальности», которая идет к этому сюжету как речитатив. Мне самому стыдно было на это указывать, а старшие этого не раскушали. А Трубачев это уловил. Это ему делает честь. Он умеет читать. » («Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» на 1897, сентябрь — декабрь, стр. 319—320). Еще одна хвалебная рецензия на повесть «Гора» появилась в журнале «Русская мысль». Анонимный критик ставил повесть в один ряд с другими произведениями Лескова на восточные темы и характеризовал эти произведения как «блестящие художественные картины», полные «любви к ближним, без разделения этих ближних на «своих» и «чужих» по верованиям, национальностям, общественным положениям и занятиям». «Необходимо, — отмечал критик, — иметь не только очень большие знания относительно описываемых событий, обычаев и мелких житейских подробностей, но еще из ряда выдающийся, совершенно особенный и своеобразный талант для того, чтобы представлять в беллетристических произведениях такие цельные, захватывающие своей реальностью картины. » («Русская мысль», 1890, № 6, «Библиографический отдел», стр. 245, 247).
В 1916 году А. И. Фаресов писал: «В настоящее время «Гора» переделана г-жой Бахаревой в пьесу и поставлена в Петрограде на сцене «Народного дома» под заглавием: «Блажен, кто верует».
Центр тяжести перенесен режиссерами на физическое движение горы, потому что, по их мнению, без этого физического «чуда» не было бы пьесы. Но. разве Лесков не проповедовал того, что только моральное величие людей может сдвинуть в нас «Гору» язычества и эгоизма?
Конечно, обстановочные картины в пьесе смотрятся не без интереса, но сам Лесков не был бы ею удовлетворен» («Исторический вестник», 1916, № 3, стр. 804).
Стр. 303. Слова, взятые Лесковым в качестве эпиграфа, за исключением первой фразы, не входят в основной текст «Египетских ночей» Пушкина, известный по академическому и другим советским изданиям его сочинений. Лесков заимствовал эпиграф или из «Русского архива», 1882, кн. 1, где в числе других материалов, под общим заглавием «Египетские ночи», напечатан отрывок «Ах, расскажите, расскажите!», или же из «Собрания сочинений А. С. Пушкина» под ред. П. А. Ефремова, т. IV (М., 1882), в котором были помещены «Пять подготовительных отрывков «Египетских ночей». Цитируя Пушкина по одному из этих изданий (см. соответственно стр. 224 и 472), Лесков намеренно, в целях соблюдения гармонии между эпиграфом и содержанием повести, подменил пушкинское слово «торг» словом «случай».
Палестра (греч.) — школа для физических упражнений, в противоположность гимназиям содержавшаяся не на счет государства, а частными лицами.
. на празднествах в роще Дафны. — Дафна (греч. — лавр) в греческой мифологии — дочь аркадского речного бога. Убегая от преследовавшего ее Аполлона, был укрыта матерью и превращена в лавровое дерево.
Удолья — речные долины.
Амаликитянин. — Амаликиты, или амаликитяне — древнее племя арабского происхождения, кочевавшее в степях каменистой Аравии.
Главные кочевья амаликитян были между Египтом и синайской степью.
Диарит (правильнее диорит) — изверженная гранитная порода; цвет от серого до зеленовато-серого.
Подобно известному со времен Амазиса художнику Феодору. — Имеется в виду египетский царь Амазис II (годы царствования — 570—526 до н. э.), который с большим уважением относился к греческой культуре, поощрял сближение Египта с Грецией, заботился о материальном благосостоянии страны. Феодор — талантливый греческий художник, живший в эпоху Амазиса II и часто бывавший в Египте. У Феодора на острове Самосе была собственная художественная мастерская, он занимался архитектурой, скульптурой и в особенности художественным литьем металлов. Многочисленные упоминания о нем и характеристики его творчества см. в романе Г. Эберса «Дочь египетского царя».
Кефье — шелковый, с темными полосками на светлом фоне, головной платок.
Рясны (ря́сно) — ожерелье или подвески.
Мицраим — древнееврейское название Египта.
Строфокомил (греч.) — страус.
Гизех, или Гизе — местность на левом берегу Нила, почти напротив Каира, знаменитая многочисленными пирамидами.
Квитовое яблоко — то же, что айва; служило у египтян символом любви.
Мемфит — житель или уроженец города Мемфиса, древней столицы Египта.
. старый потомок старых понтифов. — Понтифы, или понтифексы (лат. Pontifex) — члены коллегии жрецов в древнем Риме, обязанностью которых было следить за чистотой религиозных обрядов.
. почитают какого-то распятого Назареянина. — то есть Иисуса Христа.
Ихневмон, или фараонова мышь — хищное млекопитающее размером больше домашней кошки; в древнем Египте считалось священным животным.
. бывших рабов наших — евреев. — Евреи были подвластны Египту с 320 по 201 год до н. э.
. вести быстро долетели до ушей вещей статуи Мемнона, и Амгиготеп заговорил на рассвете. — Мемнон — царь эфиопов, герой киклической поэмы «Эфиопиды», сын Зари. В более позднюю эпоху Мемнон считался царем Верхнего Египта. С I века до н. э. его именем называются две статуи египетского царя Аменхотепа III, расположенные возле Фив. Одна из этих статуй, полуразрушенная, под влиянием движения нагревающихся песков могла издавать звуки; древние считали, что это душа Мемнона разговаривает со своей матерью, Зарей.
. пурпуровых ковров, о которых еще Феокрит писал, что они «нежнее сна и легче пуха». — Феокрит (III век до н. э.) — древнегреческий поэт. Лесков приблизительно цитирует идиллию Феокрита «Сиракузянки, или праздник Адониса» в русском переводе А. Н. Сиротинина. У А. Н. Сиротинина: «Сверху из тканей пурпурных покровы, что сна много мягче. » («Стихотворения Феокрита», пер. А. Н. Сиротинина, СПб., 1890, стр. 64, перепечатка из «Журнала министерства народного просвещения», 1890).
Аколуфы, или аколуты — прислужники епископов (носили подсвечники, зажигали свечи, подавали за обедней вино и воду и т. д.).
Нард — ароматическая жидкость, приготовленная из разнообразных приятно пахнущих растений; часто упоминается у древних писателей и в священном писании.
Куш — египетское название Эфиопии.
. справедливое замечание египетского царя Амазиса: «Жены Египта мстивы и смелы: легче иметь дело с раздраженною львицей, чем с обиженной египтянкой». — По всей вероятности, это не цитата, а вольная переработка одного из шутливых изречений Амазиса, встречающихся в романе Г. Эберса «Дочь египетского царя». В этом романе Амазис говорит, что он «скорее согласился бы раздразнить львицу, нежели женщину» (Г. Эберс. Дочь египетского царя, пер. В. Вольфсона, изд. 4-е, СПб., стр. 71).
Ариман — злой дух, в религии Зороастра — олицетворение зла.
. Кунакай, путь десяти тысяч греков. — Кунакай, Кунаки, или Кунаке — селение в нескольких милях к северу от Вавилона, возле которого в 401 году до н. э. произошла битва между армией персидского царя Артаксеркса II (годы царствования 405—359 до н. э.) и войсками его брата, Кира Младшего, претендовавшего на персидский трон. Кир в этом сражении был убит, после чего его главные силы частью рассеялись, частью перешли на сторону царя. Однако наемные войска Кира — десять тысяч греков, несмотря на предательское умерщвление военачальников, отсутствие проводников, незнание местности и лишения, не утратили мужества и, совершив поход по вражеской территории до берегов Черного моря, присоединились к своим соотечественникам, В числе вновь избранных вождей этого похода был древнегреческий историк Ксенофонт (ок. 430— 355—354 до н. э.), давший подробное его описание в своей книге «Анабасис».
. Гедеон оставил всех пивших пригоршнями, а взял с собой только одних лакавших воду по-песьи — переложение из библии (Книга судей израилевых, гл. VII, ст. 5—7, 8).
Гаторовы головы — скульптурные изображения египетской богини Атор, которую греки уподобляли своей богине любви Афродите.
Огонь и вода падают с неба. Зенон читал Страбона и сейчас же узнал это явление. — Страбон (р. ок. 63 до н. э., ум. ок. 20 н. э.) — древнегреческий географ и историк, автор «Географии», переведенной на русский язык в 1879 году («География Страбона в семнадцати книгах», пер. с греч. с предисловием и указателем Ф. Г. Мищенко, М., 1879). Описание ливней в Египте см. на стр. 708—709, 806—808 этого издания. Очевидно, именно этим переводом пользовался Лесков, работая над своим произведением, так как фраза «Огонь и вода падают с неба!» является почти цитатой из него (см. стр. 808 с ссылкой на Гомера, у которого Нил, в результате дождей и вызванного ими наводнения, «называется упавшим с неба»).
. вспомнил слова Амазиса: тетива на луке слаба. — Подразумевается изречение египетского царя Амазиса, пересказанное в «Истории» Геродота: «Владеющие луком натягивают тетиву, когда имеют нужду в луке, и отпускают ее, когда лук более не нужен; если бы тетива оставалась натянутой все время, лук лопнул бы, и им нельзя было бы воспользоваться в случае нужды. Так и с человеком: если бы человек пожелал заниматься делами непрерывно и совсем не отдыхал бы в забавах, то наверное он незаметно для себя или сошел бы с ума, или совсем отупел бы. Я знаю это и потому отдаю свою долю и труду и забаве». (Геродот. История в девяти книгах, пер, с греч. Ф. Г. Мищенко, т. 1, М., 1888, стр. 210). Это же изречение Амазиса приведено в романе Г. Эберса «Дочь египетского царя».
2 Говоря о других египтологах, Лесков во всяком случае имел в виду Геродота и Страбона. См. ниже реальный комментарий.
3 Осенью 1888 года Лесковым было послано письмо к В. А. Гольцеву, в котором была выражена просьба «войти для меня в переговоры с некоторым г. Греве, желающим переводить все мои сочинения для «Nordische Rundschau» («Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 399-400). 28 ноября 1888 года Лесков писал А. С. Суворину: «А знаете ли Вы, что немцы первые перевели мои египетские этюды: «Памфалона» и «Азу», и с рукописи переводят «Зенона Златокузнеца». А я им подивился и написал, что «у Вас есть Эберс, кот все лично видел», а я и т. д. А они мне ответили: «Нет у Эберса такой живой переработки, как у Л ва, и переводы с русского Л ва особенно желательны» (ИРЛИ, ф. 268, № 131, л. 141).