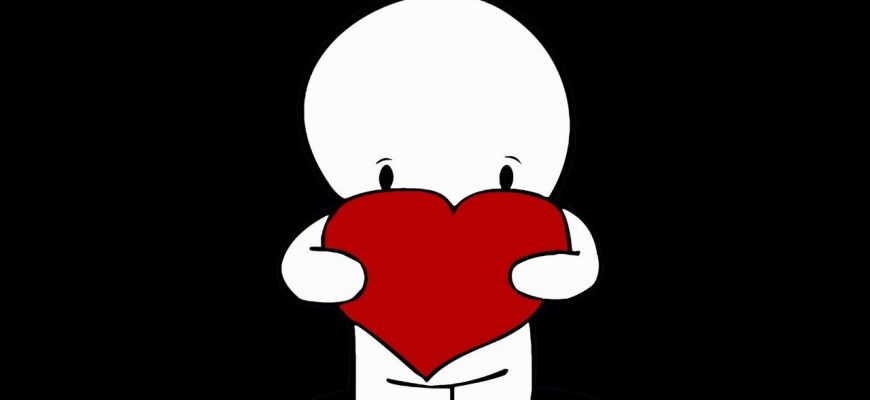Темные аллеи
Иван Бунин
Тёмные аллеи
ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ
В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими чёрными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казённая почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьёзный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, ещё чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.
Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.
Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже ещё красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с тёмным пушком на верхней губе и вдоль щёк, лёгкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под чёрной шерстяной юбкой.
Приезжий мельком глянул на её округлые плечи и на лёгкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:
— Самовар. Хозяйка тут или служишь?
— Хозяйка, ваше превосходительство.
— Сама, значит, держишь?
— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведёшь дело?
— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.
— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.
Женщина всё время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.
Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.
— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?
— Вроде этого… Боже мой, как странно!
— Что странно, сударь?
— Но все, все… Как ты не понимаешь!
Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:
— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?
— Мне господа вскоре после вас вольную дали.
— Долго рассказывать, сударь.
— Замужем, говоришь, не была?
— Почему? При такой красоте, которую ты имела?
— Не могла я этого сделать.
— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?
— Что ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас любила.
Он покраснел до слёз и, нахмурясь, опять зашагал.
Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:
— Ведь не могла же ты любить меня весь век!
— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.
— А! Всё проходит. Все забывается.
— Всё проходит, да не все забывается.
И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:
— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.
Она подошла к двери и приостановилась:
— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну, да что вспоминать, мёртвых с погоста не носят.
Она подошла и поцеловала у пего руку, он поцеловал у неё.
Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»
К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя чёрные колеи, выбирая менее грязные и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьёзной грубостью:
— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать её?
— Это ничего не значит.
— Да, да, пеняй на себя… Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду…
Низкое солнце жёлто светило на пустые поля, лошади ровно шлёпали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув чёрные брови, и думал:
«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвёл, стояли тёмных лип аллеи…» Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил её? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»
Иван Бунин — Темные аллеи: Рассказ
В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.
Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.
— Налево, ваше превосходительство, — грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.
В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом; ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи; из-за печной заслонки сладко пахло щами — разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.
Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове — седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:
Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.
— Добро пожаловать, ваше превосходительство, — сказала она. — Покушать изволите или самовар прикажете?
Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:
— Самовар. Хозяйка тут или служишь?
— Хозяйка, ваше превосходительство.
— Сама, значит, держишь?
— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?
— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.
— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.
Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.
— И чистоту люблю, — ответила она. — Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.
Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.
— Надежда! Ты? — сказал он торопливо.
— Я, Николай Алексеевич, — ответила она.
— Боже мой, боже мой! — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. — Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?
— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?
— Вроде этого… Боже мой, как странно!
— Что странно, сударь?
— Но все, все… Как ты не понимаешь!
Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:
— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?
— Мне господа вскоре после вас вольную дали.
— Долго рассказывать, сударь.
— Замужем, говоришь, не была?
— Почему? При такой красоте, которую ты имела?
— Не могла я этого сделать.
— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?
— Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.
Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.
— Все проходит, мой друг, — забормотал он. — Любовь, молодость — все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».
— Что кому бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело.
Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:
— Ведь не могла же ты любить меня весь век!
— Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот… Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, — сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня — помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», — прибавила она с недоброй улыбкой.
— Ах, как хороша ты была! — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?
— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.
— А! Все проходит. Все забывается.
— Все проходит, да не все забывается.
— Уходи, — сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. — Уходи, пожалуйста.
И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:
— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.
Она подошла к двери и приостановилась:
— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.
— Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, — ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. — Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, — жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, — пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести… Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.
Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.
Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»
К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:
— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?
— Баба — ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.
— Это ничего не значит.
— Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя — пеняй на себя.
— Да, да, пеняй на себя… Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду…
Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:
«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! „Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи…“ Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?» И, закрывая глаза, качал головой.
Темные аллеи — Бунин И.А.
I. Темные аллеи
В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.
Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.
– Налево, ваше превосходительство! – грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.
В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом, ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи, из-за печной заслонки сладко пахло щами – разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.
Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове – седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:
Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.
– Добро пожаловать, ваше превосходительство, – сказала она. – Покушать изволите или самовар прикажете?
Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:
– Самовар. Хозяйка тут или служишь?
– Хозяйка, ваше превосходительство.
– Сама, значит, держишь?
– Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?
– Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.
– Так. Так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.
Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.
– И чистоту люблю, – ответила она. – Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.
Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел:
– Надежда! Ты? – сказал он торопливо.
– Я, Николай Алексеевич, – ответила она.
– Боже мой, Боже мой! – сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. – Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?
– Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?
– Вроде этого… Боже мой, как странно!
– Что странно, сударь?
– Но все, все… Как ты не понимаешь!
Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:
– Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?
– Мне господа вскоре после вас вольную дали.
– Долго рассказывать, сударь.
– Замужем, говоришь, не была?
– Почему? При такой красоте, которую ты имела?
– Не могла я этого сделать.
– Отчего же не могла? Что ты хочешь сказать?
– Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.
Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.
– Все проходит, мой друг, – забормотал он. – Любовь, молодость – все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».
– Что кому Бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело.
Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:
– Ведь не могла же ты любить меня весь век!
– Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот… Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, – сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня – помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», – прибавила она с недоброй улыбкой.
– Ах, как хороша ты была! – сказал он, качая головой. – Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?
– Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.
– А! Все проходит. Все забывается.
– Все проходит, да не все забывается.
– Уходи, – сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. – Уходи, пожалуйста.
И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:
– Лишь бы Бог меня простил. А ты, видно, простила.
Она подошла к двери и приостановилась:
– Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.
– Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, – ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. – Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно – жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал – пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести… Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.
Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.
Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прелестна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»
К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:
– А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?
– Баба – ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.
– Это ничего не значит.
– Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя – пеняй на себя.
– Да, да, пеняй на себя… Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду…
Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:
«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! „Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи…“ Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»
Сборник рассказов «Темные аллеи».
Темные аллеи.
В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.
Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.
Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.
Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:
— Самовар. Хозяйка тут или служишь?
— Хозяйка, ваше превосходительство.
— Сама, значит, держишь?
— Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?
— Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.
— Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.
Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.
Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел.
— Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?
— Вроде этого. Боже мой, как странно!
— Что странно, сударь?
— Но все, все. Как ты не понимаешь!
Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:
— Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?
— Мне господа вскоре после вас вольную дали.
— Долго рассказывать, сударь.
— Замужем, говоришь, не была?
— Почему? При такой красоте, которую ты имела?
— Не могла я этого сделать.
— Отчего не могла? Что ты хочешь сказать?
— Что ж тут объяснять. Небось, помните, как я вас любила.
Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.
Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:
— Ведь не могла же ты любить меня весь век!
— Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.
— А! Все проходит. Все забывается.
— Все проходит, да не все забывается.
И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:
— Лишь бы бог меня простил. А ты, видно, простила.
Она подошла к двери и приостановилась:
— Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну, да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.
Она подошла и поцеловала у пего руку, он поцеловал у нее.
Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку, и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»
К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:
— А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?
— Это ничего не значит.
— Да, да, пеняй на себя. Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду.
Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:
«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи. » Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»