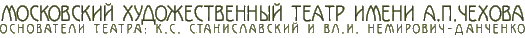Рассказ о счастливой Москве
Постановка: Миндаугас Карбаускис
Художник: Мария Митрофанова
Художник по костюмам: Светлана Калинина
Художник по свету: Сергей Скорнецкий
Артисты: Ирина Пегова, Иван Шибанов, Евгений Миллер, Алексей Усольцев, Александр Воробьев, Яна Сексте
Продолжительность 1 ч. 50 мин.
Фото © Михаил Гутерман, Игорь Захаркин
Главное в «Рассказе о счастливой Москве» – наэлектризованное ожидание космического счастья, общего для всех и безоговорочного, на все времена. В центре романа – девушка-сирота, сознательным детдомовским начальством названная Москвой Ивановной Честновой. В спектакле Москва берет в руку вилку кипятильника – и вода в стакане натурально закипает.
Но назвать «Счастливую Москву» гимном любви язык не повернется. Платонов показывает, как подкашивается великая утопия. Подкашивается буквально: Москве, которая и есть эта утопия во плоти, ампутируют расплющенную вагонеткой ногу. Она прибивается к тому, кто меньше всех о ней мечтал, – пенсионеру, единственная страсть которого – облигации госзайма. А парни, обожженные ее электричеством, строят каждый свою частную жизнь.
Только ленивый не заметит, что у Карбаускиса эта вещь выглядит второй частью дилогии, начатой инсценировкой андреевского «Рассказа о семи повешенных». Декорация рифмуется со сценографией первого спектакля. Там была вешалка, а здесь выстроен целый гардероб – и деревянные переборки, увешанные шинелями и пальто, выглядят шеренгами строителей коммунизма. Но главная связь спектаклей в другом. В предыдущем – о молодых дореволюционных бомбистах – упоение жизнью рождалось в них на самом пороге смерти. Последний спектакль начинается с того, чем закончился первый, – с ощущения счастья и ожидания того, что оно станет еще полней, еще глубже, и приходит к смертной тоске в финале.
Обжигающее счастье всеобъемлющей любви – свойство ли это любой молодости или только советской, свойство ли это утопии, и любой утопии или именно этой, коммунистической, — ни на чем Карбаускис в своем спектакле не настаивает. У него в финале герои мечутся к гардеробной стойке, поднося все новые и новые пальто. Как будто передают эстафету новым и новым мальчикам и девочкам. Но то, что Карбаускис имел в виду не одни только метания молодости, понятно. И кому тут нужно доказывать, как эта утопия прекрасна и как болит после нее ожог.
«Рассказ о счастливой Москве» – очень легкий спектакль, но, кажется, самый мрачный у Карбаускиса. Ему долго пеняли на завороженность темой смерти, а он ставил все больше о том, что, может статься, смерти никакой и нет. В его предыдущей работе – «Рассказе о семи повешенных», явной рифме к «Счастливой Москве», это сообщалось самым недвусмысленным образом. В инсценировке Платонова режиссер не то чтобы пересматривает свой любимый сюжет, но поворачивает его: та же вешалка, только другим боком.
Персонажи «Рассказа о семи повешенных» тоже оставляли в прихожей свои пальто перед тем, как уйти в жизнь вечную. Но их было семеро, а в гардеробе «Москвы» одинаковых шинелей не счесть, и различие между двумя вешалками, построенными художником Марией Митрофановой, именно в этом: первая имела отношение к христианскому, индивидуальному понятию бессмертия, вторая – к коммунистическому, коллективному. В самом конце все участники спектакля снуют с шинелями туда-обратно и стучат по стойке номерками. На виде гардероба эта лихорадочная активность никак не сказывается – все те же серые ряды, незаменимых у нас нет, один умер, другой родится.
Прихожая, гардероб, чистилище, межеумочное пространство душевной маеты зажило своей обычной жизнью после короткого чуда утопии. В котором расцветали алые пролетарские гвоздики, всеобщее счастье ни в какую не разменивалось на личное и можно было – послушайте! – любить Москву.
Рассказ о счастливой москве о чем
Артисты труппы
Артисты, занятые в спектаклях МХТ
Рассказ о счастливой Москве
Рассказ о том, как Москва Ивановна Честнова девушка полной комплекции и коммунистической закалки пыталась «жить будущей жизнью», «по правде с трудом». Личное же счастье было для нее синонимом глупости. Потому не смогла она одарить вниманием ни Божко, талантливого эсперансиста и геометра, ни хирурга Самбикина, ни влюбленного в нее инженера Сарториуса. Дети октябрьской революции, вместе они строили «светлое будущее», давя в себе желание любить и быть индивидуально счастливыми.
Ученик Петра Фоменко Миндаугас Карбаускис всесторонне обласкан критикой и захвален благодарным зрителем. И не без оснований. Его спектакли это удовольствие от встречи с интеллектуальным, ненавязчивым и очень душевным театром, о котором хочется писать с восхищением, всяческими «ахами» и восклицательными знаками. Предыдущая его работа «Рассказ о семи повешенных» по прозе Андреева только что получила «Золотую Маску» в номинации «Приз критиков и журналистов». А «Счастливая Москва» отчасти продолжение «Повешенных».
Литературной основой стала неосвоенная театром проза: странноватый роман Андрея Платонова, где корявыми смешными предложениями описывается жизнь первых советских людей. На сцене вместо декораций гардероб с рядами вешалок, герои без конца скидывают и надевают пальто, звучно стуча номерками а под серыми шинелями у них ярко красные рубахи и платья, чтобы всем было ясно перед нами трудяга и советский человек. Нелепый слог Платонова и отстраненно-ироничная игра актеров вместе дали потрясающий комедийный эффект: невозможно сдержать улыбку и не полюбить эту пухлую, сияющую здоровьем и счастьем Москву и ее мужчин.
Честнову играет Ирина Пегова («Прогулка», «Космос как предчувствие»), еще одна ученица Фоменко, и кажется, трудно подобрать актрису более подходящую на эту роль. «Большая грудь», «розовая чистота», «цветущие пространства тела», находящегося «накануне женственной человечности, когда человек почти нечаянно заводится внутри человека»? От героини Пеговой так и веет здоровьем, теплом, любовью и счастьем такого масштаба, что им можно захлебнуться, стоит только подойти. И неудивительно, что мужчины даже советские влюбляются в нее с первого взгляда. Безвозмездно помогает ей любитель международной переписки Божко (Усольцев), рекламирующий неграм из Конго чудесную жизнь молодого СССР. Упорно сопротивляется чувствам хирург Самбикин (Куличков), уверенный, что Москва не будет ему верна: «не может она никогда променять весь шум жизни на шепот одного человека». И только изобретатель Сарториус (Яценко) не может противостоять обаянию Москвы. Привязанность к ней разрушает его жизнь и карьеру великого изобретателя. Да и судьба Честновой складывается трагически: получив травму на стройке метро, она становится безногой калекой и понимает, что, откладывая личное счастье на потом, упустила что-то важное, что-то необходимое Чего теперь не вернуть.
И все-таки финал у спектакля вполне радостный. Сарториус сменил фамилию, город и жену и продолжил трудиться во имя «светлого будущего». Божко тоже не остался один и по-прежнему переписывается с «дорогими, отстраненными друзьями» из Мельбурна, Капштадта, Гонконга, Шанхая, сообщая им, как счастлив пролетариат, скопляя себе «громадное наследство в виде социализма». Радиоприемник бодро напевает: «Дорогие мои москвичи», а на сердце радостно и легко. Как будто не герои, а мы сами узнали рецепт настоящего счастья.
Рассказ о счастливой москве о чем
Кажется, в Москве нет театра с более противоречивым репертуаром, чем «Табакерка». Только выпустили какую-нибудь залихватскую разлюли-малину – и вдруг невесть откуда появляется спектакль сдержанный и глубокий. И дело даже не в том, что он лучше предыдущего, а в том именно, что он другой – будто с другого поля, на других удобрениях выросший, для других целей предназначавшийся.
В последние годы такие спектакли появляются тут главным образом благодаря Миндаугасу Карбаускису, который служит в «Табакерке» штатным режиссером, он даже воспитал команду актеров, которые во всех спектаклях работают с ним и знают про театр что-то особенное. Но на главные роли в своей премьере «Рассказ о счастливой Москве» он взял не их, а свою бывшую гитисовскую однокурсницу Ирину Пегову, недавно перешедшую из Мастерской Фоменко в МХТ, и Александра Яценко – новую звезду российского арт-хаусного кино.
Героиня спектакля по незаконченному роману Платонова «Счастливая Москва» – выросшая в послереволюционном приюте девушка с выдуманным именем Москва Честнова – не мечтает о любви, она сама и есть любовь, счастье, электричество.
Она хочет чего-то большего, главного, что никак не может стать исполнимым, – быть сразу всем и всеми, участвовать во всем и отвечать за все, как мировой коммунизм, разлитый в природе. Так она и живет – стремительно и полно, ненадолго становясь то парашютисткой, то работницей военкомата, то спускаясь в шахту метро. И на этом пути томя своей ликующей молодостью всех строителей коммунизма – тоже очень молодых.
Карбаускис выстроил свой спектакль вокруг одного из сюжетов маленького платоновского романа – встречи молодежи в районном клубе комсомола. Художница Мария Митрофанова превратила сцену в старый гардероб с полустертыми цифрами на стойках, деревянным прилавком, по которому громко стучат номерки, и с хриплым радио в углу, распевающим голосом Шульженко песенку про Челиту: «И утром и ночью поёт и хохочет,/ Веселье горит в ней, как пламя…» Длинные ряды серых пальто и головных уборов, уходящие куда-то в глубину, кажутся шеренгами людей – серым советским народом 30-х годов. Говоря о ком-то далеком, актеры вынимают из гардеробных недр и демонстрируют его пальто и шапку: Сталин – фуражка, Ленин – кепка, Менделеев – квадратная профессорская шапочка.
Это понятно: Ирина Пегова кажется точно той женщиной, что описана у Платонова, с сиянием счастья, идущим откуда-то изнутри от избытка сил, и мощным биением сердца: «Это биение происходило настолько ровно, упруго и верно, что если можно было бы соединить с этим сердцем весь мир, то оно могло бы регулировать теченье событий».
Это не кажется удивительным: Москва – девушка-электричество, она действительно нужна для всеобщего счастья, и та жизнь, что никак у нее не сбывается, действительно больше, чем любовь к одному человеку.
Рассказ о Счастливой Москве
Этого спектакля я ждала целый год. С усиливающимся по мере приближения премьеры томительным нетерпением, сладким предвкушением и трепетным волнением. Впечатление оказалось столь сильным, что мне потребовалось все это время, чтобы привести в относительный порядок мысли и чувства и наконец-таки выпустить какую-то их часть на поверхность. С первого дня премьеры и до сих пор спектакль не отпускает меня, прочерчивая все новые и новые линии на рисунке моего воображения. Пытаясь вникнуть в этот рисунок, я увлекалась и боюсь, порой уходила совсем не в ту сторону. Вопросов, как всегда, больше, чем ответов. Я буду еще долго жить им, но моя внутренняя кладовая впечатлений уже переполнена до краев ) и хочется наконец-таки сказать сердечное спасибо создателям этого спектакля – он получился восхитительным.
Незаконченный роман Платонова о женщине-городе и городе-женщине в сценической версии режиссера Миндаугаса Карбаускиса превратился в рассказ – именно такая форма вновь выбрана в качестве способа переложения прозы в спектакль. Продолжая традицию сценического «рассказывания», стиль которого еще формируется и развивается, режиссер опять открывает что-то новое. Миндаугас Карбаускис во многих смыслах является первооткрывателем — по выбору литературного материала для постановок, по манере изложения, по тематике и даже проблематике: хотя известно, что глобально все темы в итоге сводятся к конечному весьма небольшому числу, и тут все равно он умудряется повернуть все по-другому, как-то с неожиданной стороны.
Шестеро актеров начинают рассказывать со сцены историю о счастливой Москве и ты увлекаешься этим настолько, что не замечаешь, как тебя вовлекают в самую гущу действа. В какой-то момент вдруг неожиданно понимаешь, что тебя «развели», но почему-то ты этому несказанно рад! Так создается безумный круговорот: зрителя словно поднимают в воздух и бросают на землю, из огня окунают в воду — ощущение непередаваемое! 🙂
Итак, Москва… Главная героиня наделена сразу тремя именами – прежде, будучи обычной девочкой, ее звали Оля, в противоположность необыкновенной Москве Ивановне Честновой. В конце она лишается своей «особенности» и тогда уже ее зовут просто Муся.
Какая она – Москва? Обе они какие? Светящаяся Москва манит и притягивает, в нее просто невозможно не влюбиться: «и утром, и ночью поет и хохочет, веселье горит в ней как пламя…», но она ужасно непостоянна, всякий раз сама уходит от своего счастья, ей все время нужно что-то другое. И правда, только кто-нибудь в нее влюбляется, «смотришь, а она уже с другим».
Воплощая огонь, она при этом обжигает всех окружающих ее мужчин (прямо как в сцене, где Комягин просит Москву – «Красную армию» отпустить его, когда она взяла его за руку). Воплощая любовь, она не видит в ней особой важности, ведь «любовь не может быть коммунизмом» и не способна Москва «променять весь шум жизни на шепот одного человека». Воплощая жизнь, жизни-то у нее никак «не выходит». Воплощая энергию, Москва хочет работать для других, «тратиться» на какое-то другое, чужое благо, «дарить» себя людям, как электрический ток кипятильникам для подогрева воды. Но вода остыла и вся ее энергия ушла в пар. Из прекрасной девушки она превращается в «хромую психичку», в которой однако продолжают видеть прежний идеал, как не желают замечать уродливую реализацию утопии. Так она в результате «пропадает где-то в пространстве человечества», растворяется в «синих далях» засыпающей Москвы-города.
Все герои Счастливой Москвы несут в себе определенную идею, которая разными персонажами проверяется по-разному, и в конце концов, сама идея через них проверяется на состоятельность. В этом смысле Божко-Самбикина-Сарториуса можно воспринимать как единого героя. Через них просматриваются три различных пути, которые каждый по-своему разоблачают миф о «новом человеке». Все трое обладают абсолютной приверженностью своему делу, пренебрежением личными интересами и личным счастьем, отвергают любовь к женщине как «глупость» и «недоразумение». Они верят в научный прогресс и социализм, с помощью науки борются и со смертью, и со страстью. Будучи материалистами они тем не менее увлечены извечной проблемой души и ищут ее то в технике, то в «пустоте в кишках».
Виктор Васильевич Божко — будто маленький земной божок, землеустроитель по профессии, он устраивает и судьбы людей: Москвы, Сарториуса, «отдаленных друзей». В конечном счете он женится на машинистке Лизе, заменяя тем самым утопическую дружбу со всем человечеством на счастье с отдельным человеком.
В самом имени Самбикина можно усмотреть двойственность его сущности (корни «сам» и «би»): борющиеся в нем противоположные стихии тела и разума, а также его дуалистическую теорию сознания. До конца рассказа Самбикин остается верен материалистическому объяснению бытия: он уверен, что человек может рационально решить все мучающие его вопросы, достичь «по всем пунктам счастья и страдания» «ясности и договоренности».
Возможные латинские значения имени Сарториуса (sartus и sartor) — «переделанный», «исправленный»или «починщик» характеризуют его как активно действующего, налаживающего внутреннюю и окружающую жизнь героя. Но его «попытки спасения человечества» терпят поражение. Хотя на первый взгляд они удачны — изобретенные Сарториусом весы широко используются в народном хозяйстве и заслужили признание, — по большому счету от этого ничего в мире не меняется. Когда Сарториус узнает однажды от Самбикина, где находится Москва, он отыскивает ее у Комягина, но понимает, что и ее присутствие в его жизни ничего не решает. После чего, проболев месяц, талантливейший ученый принимает радикальное решение «превратить себя в прочих людей». Известный механик Сарториус превращается в безвестного служащего Груняхина, живущего неприметной жизнью с озлобленной женой. Пушкинское «На свете счастья нет, но есть покой и воля» – это как раз про перевоплотившегося в Груняхина Сарториуса, который, узнав «настоящий характер человечества», утверждает, что «все так и быть должно».
Комягин – противоположность Божко-Самбикина-Сарториуса, он символ неудавшихся перемен, утраченных возможностей. Он вне: вне системы, вне новой жизни. (В словаре Даля слово «комяга» означает «обрубисто и топорно выдолбленное корытом бревно, кряж, служащий лодкою») Его «грубая», «неотесанная» жизнь отличается от жизни трех «рационалистов». И именно к нему пришла жить искалеченная Москва, которая не видела для себя больше места среди счастливых москвичей.
Получается, что переходы героев из одного качества в другое на самом деле носят только мнимый характер, ведь какие бы меры они ни принимали, какие бы испытания судьбы ни проходили, чтобы изменить свою жизнь, они возвращаются в исходную точку, не могут уйти от себя. C одной стороны, вечный круговорот жизни, в котором все лишь повторяется, с другой, — радикализм нового через уничтожение старого, приводит преобразовательные проекты героев и их самих в своем высоком стремлении радикально все изменить к поражению. Безысходное трагическое колебание между двумя полюсами — между утверждением утопии и ее разоблачением, между ее положительной оценкой и невозможностью ее осуществить.
Город Москва, наполненная москвичами, такими разными, что иногда диву даешься, неужели все эти люди живут в одном городе, очень походит на громадный рынок: где есть такие таланты как Сарториус (хотя как раз таких как Сарториус и Самбикин, серьезно и искренне охваченных благородной пусть и утопической идеей, отвергающих свои личные интересы, сегодня как раз «днем с огнем» не сыщешь), разочаровавшийся и сделавшийся Груняхиным, такие как его начальник, для которого нужно, «чтоб было загадочно и хорошо, как будто несбыточно», такие как Катя Бессонэ-Фавор, упивающиеся собой, а потом не знающие, куда деваться, и такие как жена Арабова – гражданка Чебуркова… Да много кто еще здесь живет. И все здесь можно купить – даже новое имя и другую жизнь. Можно даже новое Солнце зажечь, если понадобится. И увидеть здесь можно в равной степени и хорошее, и плохое – это уж кто, что хочет видеть, кому как повезет и кому, что нужно.
Не дает мне покоя тройственность в спектакле – тройственность не столько вещей, сколько людей: в любовной сцене Лизы и Сарториуса третьим вклинившимся, по сути соединившим их, был Божко, в любовной сцене Москвы и Божко тоже был третий, скажем так «случайный человек», заканчивается история Москвы треугольником: Комягин – Москва – Сарториус. Что же, всегда есть… кто-то еще?
Рассматривая только внешнюю часть спектакля, его «одежку», хочется сказать, что он удивительно красив! Основой является сочетание красного и серого, что воплощает еще множество функционально-смысловых идей помимо изумительной красоты наблюдаемой картины самой по себе. Красный – цвет любви, революции, советского государства, Москвы. Активный, стремящийся всем завладеть, красный цвет выражает силу, энергию, страстное желание, это импульс к моторному действию, к борьбе. Также красный раньше означал «красивый» в русском языке. Предположу, что в спектакле красный – еще и цвет души, которая скрывается под серыми костюмами и пальтишками – телесными человеческими оболочками (прямо-таки развитие темы, начатой в Рассказе о семи повешенных). Цвет пылающей души, а может, утопической души? Тогда Москва, полностью одетая в красное, воплощение утопической идеи, «мировой души» (кстати, в Тимее Платона «мировая душа» определяется как «двигатель мира, содержащий в себе все телесное и его элементы, познающий все» – похоже на характер Москвы…). Души горящей и сгорающей в итоге напрасно. Ведь Сарториус, перевоплотившийся в Груняхина, уже практически весь в сером (словно закрывает свою душу наглухо) и Москва-Муся в конце остается без своего чудесного красного наряда. Единственный, кто не обладает красной рубахой-душой с самого начала – это Комягин. В своей последней сцене, где рассказывается о его совместной жизни с Москвой, Комягин одет… в желтое? Желтый считается вторым основным цветом после «первородного» красного. Негативный диапазон значений желтого цвета связан с холодным резким оттенком, «кричащим», «колющим», «гниющим», грязным, вызывая ассоциации болезни и смерти. Желтый также выражает предупреждение.
Советскость, серая одинаковость, массовость, иллюзорность, — все это в спектакле есть. Но при всех признаках периода временные рамки здесь раздвинуты. Есть вещи, которые не меняются. Нет одного, есть миллионы, есть некая «картинка правильной жизни», подмена и ведОмость. Разве сейчас этого нет? В этом смысле спектакль получился философским размышлением о сложностях судьбы и о тупиках человеческого сознания не только в конкретный исторический промежуток, он получился «надвременным».
Тут сразу хочется вспомнить, на мой взгляд, просто блестящую идею вешалок-крестов с номерами и телесными оболочками-пальтишками на них. Помните момент, когда Божко рассказывает о портретах, висящих в его комнате? «Ниже трех портретов висели в четыре ряда мелкие фотографии безымянных людей, причем на фотографиях были не только белые лица, но также негры, китайцы и жители всех стран». Как просто и вместе с тем изящно: все люди, и простые, и великие, в конечном счете, занимают свое место в бесконечном ряду – уходят, и остаются всего лишь номером (еще одно занимательное наблюдение: последняя цифра на декорациях-вешалках – 88, а 8 – число бесконечности и бессмертия. Возможно, так получилось по какой-то другой причине, но как-то очень красиво: от 1 до 88 — от начала до бесконечности…) Да, известно, что для «великих» человечество всего лишь цифра, они считают людей не именами, а номерами в лучшем случае. В худшем, сотнями, тысячами, миллионами… Но: ведь и они сами, великие-то всего лишь номера, рано или поздно занимающие свое место в этой предрешенной не нами последовательности. И люди-номера эти сменяют друг друга с печальной быстротой – вспомните последнюю сцену спектакля, когда не успев взять один номер, герои друг за другом спешат уже с другим номером, сталкиваясь друг с другом в узких проходах гардероба-жизни или гардероба-судеб, за «вещи» оставленные в котором никто «ответственности не несет»…
Вообще в спектакле очень много интересных «придумок», каждую сцену хочется «распробовать» — сомнение, обыгранное передачей друг другу номерка в сцене выяснения отношений Москвы и Сарториуса, выкручивание лампочек, куча всех этих серых пальто, на которых лежит «уходящая» Москва, растворяясь все в той же серой гуще безвестности… Лучше снова прийти и все увидеть. И услышать )
Все-таки Платонов – очень и очень особенный писатель, сумевший создать свой совершенно особенный язык и свою философию. Платоновский текст порой производит впечатление хаоса и дезорганизации. Однако интуитивно чувствуется, что за этим кроется обдуманная в мельчайших подробностях и очень точная система. Его тексты с большим трудом поддаются (если вообще поддаются) интерпретации. «С Платоновым кокетничать запрещено. Совсем», — прочитала я когда-то. И еще: «Его язык не оставляет никаких возможностей для «я понимаю иначе»: либо — либо. Либо ты усваиваешь этот язык, беря на себя всю его тяжесть и горечь, либо пошел вон отсюда.» Не знаю, каким образом усваивали язык Платонова создатели спектакля, но у меня такое ощущение, что есть у автора романа и у режиссера спектакля кое-что общее… какое-то одинаково сильное чутье природы, природы жизни, из самой сущности которой, мне кажется, соткан язык Платонова и которую так чутко переводит в своих работах Миндаугас Карбаускис.
Актерские работы здесь все хороши, без оговорок и натяжек. Александр Яценко и Дмитрий Куличков просто изумительны! Ирина Пегова — живое воплощение платоновской Москвы Честновой, и сложно даже представить кого бы то ни было другого на ее месте. Поразительно, как Яна Сексте умудряется демонстрировать широчайший спектр эмоций и перевоплощений за совсем скромные интервалы времени. Для Алексея Усольцова эта роль прекрасная возможность для «самораскрытия». И Александру Воробьеву не могу не сказать искреннего зрительского «спасибо».
О чем же этот спектакль для меня – одной из миллионов, живущих в Москве людей? О счастье, о его поисках, тщетных и напрасных, потому что не там и не в том оно заключается, где его все ищут. О том, что с одной стороны, счастье требует большого труда, терпения, уступок, аккуратности и осторожности. С другой стороны, оно нигде конкретно, хотя может оказаться где угодно: оно складывается из мгновений, мелодий, обрывков фраз, солнечных лучей и капель дождя, прикосновений и взглядов. Оно эфемерно и мимолетно. Но, вспоминая веру героини совсем другой истории в то, что каждому дается «что-то, чтобы он стал лучше», хочется надеяться на то, что каждому дается что-то для счастья.
Шла после спектакля по весеннему бульвару домой, и не шла, а летела – не в смысле скорости, а по ощущению легкости, — бережно унося в себе все увиденное и услышанное в тот день в театре, и почувствовала: вот они – мгновения счастья… ))