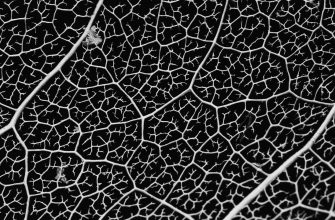История создания рассказа «Один день Ивана Денисовича»: история написания и интересные факты
 |
| Иван Денисович Шухов (актер Том Кортни). Кадр из фильма 1970 г. |
В этой статье представлена история создания рассказа «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.
В статье вы найдете материалы об истории написания и публикации рассказа, интересные факты о рассказе и т.д.
История создания рассказа «Один день Ивана Денисовича»
Идея рассказа
Вот как описывает свой замысел сам Солженицын:
История написания
Рассказ написан в Рязани, где Солженицын поселился в июне 1957 г. и с нового учебного года стал учителем физики и астрономии в средней школе №2. Рассказ был начат 18 мая 1959 г. и закончен 30 июня. Работа заняла меньше полутора месяцев.
Вот что об этого говорит сам Солженицын в одном из интервью:
«. Это всегда получается так, если пишешь из густой жизни, быт которой ты чрезмерно знаешь, и не то что не надо там догадываться до чего-то, что-то пытаться понять, а только отбиваешься от лишнего материала, только-только чтобы лишнее не лезло, а вот вместить самое необходимое. » (радиоинтервью для Бибиси, 8 июня 1982 г.)
В ссылке, а затем и реабилитированным он мог работать, не уничтожая отрывок за отрывком, но должен был таиться по-прежнему, чтобы избежать нового ареста. После перепечатки на машинке рукопись сжигалась. Сожжена и рукопись лагерного рассказа. А поскольку машинопись нужно было прятать, текст печатался на обеих сторонах листа, без полей и без пробелов между строчками.
Журнал «Новый мир»
Только через два с лишним года, после внезапной яростной атаки на Сталина, предпринятой Н.С.Хрущёвым на XXII съезде партии (17-31 октября 1961 г.), Солженицын рискнул предложить рассказ в печать.
10 ноября 1961 г. рукопись рассказа без указания имени была передана в отдел прозы журнала «Новый мир» Анне Самойловне Берзер. Настоящее имя автора было заменено псевдонимом «А. Рязанский».
12 декабря Твардовский принял Солженицына, созвав для знакомства и беседы с ним всю головку редакции. «Предупредил меня Твардовский, что напечатания твёрдо не обещает (Господи, да я рад бы, что в ЧКГБ не передали!), и срока не укажет, но не пожалеет усилий».
Подготовка к цензуре
По просьбе Твардовского для передачи наверх письменные отзывы об «Иване Денисовиче» написали К. И. Чуковский (его заметка называлась «Литературное чудо»), С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский, К. М. Симонов. Сам Твардовский составил краткое предисловие к повести и письмо на имя Н.С.Хрущёва. 6 августа 1962 г. спустя девять месяцев рукопись «Одного дня Ивана Денисовича» с письмом Твардовского была отправлена помощнику Хрущёва- В.С.Лебедеву, согласившемуся, выждав благоприятный момент, познакомить патрона с необычным сочинением. Спустя месяц Лебедев на досуге начал читать Хрущёву рассказ.
Одобрение Хрущева
Публикация рассказа
Солженицын о публикации рассказа
«. Для того чтобы её* (*повесть) напечатать в Советском Союзе, нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей.
«. А когда напечатался «Иван Денисович», то со всей России как взорвались письма ко мне, и в письмах люди писали, что они пережили, что у кого было. Или настаивали встретиться со мной и рассказать, и я стал встречаться. Все просили меня, автора первой лагерной повести, писать ещё, ещё, описать весь этот лагерный мир. Они не знали моего замысла и не знали, сколько у меня уже написано, но несли и несли мне недостающий материал. «
Один день Ивана Денисовича — Солженицын А.И.
Эта редакция является истинной и окончательной.
Никакие прижизненные издания её не отменяют.
А. Солженицын Апрель 1968 г.
В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.
Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.
И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить.
Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему — до развода было часа полтора времени своего, не казенного, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вкруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку — тоже накормят, но там охотников много, отбою нет, а главное — если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина — старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:
— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать.
Насчет кума — это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только береженье их — на чужой крови.
Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось — то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро.
Но утро пришло своим чередом.
Да и где тут угреешься — на окне наледи наметано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку — здоровый барак! — паутинка белая. Иней.
Шухов не вставал. Он лежал на верху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается, инвалид, легкая работа, а ну-ка, поди вынеси, не пролья! Вот в 75‑й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот — и в нашей (и наша была сегодня очередь валенки сушить). Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдет, а бригадир — в штабной барак, к нарядчикам.
Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит, — Шухов вспомнил: сегодня судьба решается — хотят их 104‑ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект «Соцбытгородок». А Соцбытгородок тот — поле голое, в увалах снежных, и прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать. А потом строить.
Там, верное дело, месяц погреться негде будет — ни конурки. И костра не разведешь — чем топить? Вкалывай на совесть — одно спасение.
Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, заместо себя туда толкануть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему нарядчику понести. А то и килограмм.
Испыток не убыток, не попробовать ли в санчасти косануть, от работы на денек освободиться? Ну прямо все тело разнимает.
И еще — кто из надзирателей сегодня дежурит?
Дежурит — вспомнил: Полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь — прямо страшно, а узнали его — из всех дежурняков покладистей: ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятый барак.
Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое: наверху — сосед Шухова баптист Алешка, а внизу — Буйновский, капитан второго ранга бывший, кавторанг.
Старики дневальные, вынеся обе параши, забранились, кому идти за кипятком. Бранились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20‑й бригады рявкнул:
— Эй, фитили! — и запустил в них валенком. — Помирю!
Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали.
В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир:
— Василь Федорыч! В продстоле передернули, гады: было девятисоток четыре, а стало три только. Кому ж недодать?
Он тихо это сказал, но уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась: от кого-то вечером кусочек отрежут.
А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала — или забило бы в ознобе, или ломота прошла. А то ни то ни сё.
Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно:
— Ну, держись, краснофлотцы! Тридцать градусов верных!
И Шухов решился — идти в санчасть.
И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой Татарин.
Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо.
— Ще — восемьсот пятьдесят четыре! — прочел Татарин с белой латки на спине черного бушлата. — Трое суток кондея с выводом!
И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всем полутемном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотне клопяных вагонок спало двести человек, сразу заворочались и стали поспешно одеваться все, кто еще не встал.
— За что, гражданин начальник? — придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов.
С выводом на работу — это еще полкарцера, и горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер — это когда без вывода.
— По подъему не встал? Пошли в комендатуру, — пояснил Татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей.
На безволосом мятом лице Татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кого бы, но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене или, уже одетые, запахивались и спешили к выходу — переждать Татарина на дворе.
«Один день Ивана Денисовича»
ЗЕРКАЛО ЭПОХИ ГУЛАГА
Значение произведения А. Солженицына не только в том, что оно открыло прежде запретную тему репрессий, задало новый уровень художественной правды, но и в том, что во многих отношениях (с точки зрения жанрового своеобразия, повествовательной и пространственно-временной организации, лексики, поэтического синтаксиса, ритмики, насыщенности текста символикой и т.д.) было глубоко новаторским».
9 декабря Копелев сообщил телеграммой Солженицыну: «Александр Трифонович восхищен. ». 11 декабря Твардовский телеграммой попросил Солженицына срочно приехать в редакцию «Нового мира». 12 декабря Солженицын приехал в Москву, встретился с Твардовским и его замами Кондратовичем, Заксом, Дементьевым в редакции «Нового мира». На встрече присутствовал также Копелев. Рассказ решили назвать повестью «Один день Ивана Денисовича».
Но одного желания Твардовского опубликовать эту вещь было мало. Как опытный советский редактор, он прекрасно понимал, что она не выйдет в свет без разрешения верховной власти. В декабре 1961 года Твардовский дал рукопись «Ивана Денисовича» для прочтения Чуковскому, Маршаку, Федину, Паустовскому, Эренбургу. По просьбе Твардовского они написали свои письменные отзывы о рассказе. Чуковский назвал свой отзыв «Литературное чудо». 6 августа 1962 года Твардовский передал письмо и рукопись «Ивана Денисовича» помощнику Хрущева Владимиру Лебедеву. В сентябре Лебедев в часы отдыха стал читать рассказ Хрущеву. Хрущеву повесть понравилась, и он распорядился предоставить в ЦК КПСС 23 экземпляра «Ивана Денисовича» для ведущих деятелей КПСС. 15 сентября Лебедев передал Твардовскому, что рассказ Хрущевым одобрен. 12 октября 1962 года под давлением Хрущева Президиум ЦК КПСС принял решение о публикации рассказа, а 20 октября Хрущев объявил Твардовскому об этом решении Президиума. Позже в своей мемуарной книге «Бодался теленок с дубом» Солженицын признался, что без участия Твардовского и Хрущева книга «Один день Ивана Денисовича» не вышла бы в СССР. И в том, что она все-таки вышла, было еще одно «литературное чудо».
«Щ-854. ОДИН ДЕНЬ ОДНОГО ЗЭКА»
Из радиоинтервью Александра Солженицына Би-Би-Си к 20-летию Выхода «Одного дня Ивана Денисовича»
АХМАТОВА ОБ «ИВАНЕ ДЕНИСОВИЧЕ» И СОЛЖЕНИЦЫНЕ
«Приезжал ко мне автор «Ивана Денисовича». Учил меня, как писать стихи».
«Славы не боится. Наверно, не знает, какая она страшная и что влечёт за собой».
«ДОРОГОЙ ИВАН ДЕНИСОВИЧ…!» (ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ)
«Уважаемый товарищ Солженицын! Прочитал Вашу повесть «Один день Ивана Денисовича» и от души благодарю Вас за матушку-правду. Я работаю на шахте. Вожу электровоз с вагонетками коксующего угля. Наш уголь имеет тысячеградусное тепло. Пусть это тепло через посредство моего уважения согреет Вас».
«Несмотря на весь ужас этого обычного дня в нем нет и одного процента тех ужасных, нечеловеческих преступлений, какие видел я, пробыв в лагерях более 10 лет. Я был свидетелем, когда на прииск осенью поступило 3000 «оргсилы» (так называли заключенных), а к весне, т.е. через 3-4 месяца, живых осталось 200 человек. Шухов спал на вагонке, на матраце, хотя и набитом опилками, а мы спали на болотных кочках, под дождем. А когда натянули дырявые палатки, сами себе сделали из неотесанных жердей нары, подстилали ветки хвои и так, сырые, во всем, в чем ходили на работу, ложились спать. Утром сосед слева или справа отказывался от «сталинской пайки» навсегда…».
Один день Ивана Денисовича
Рассказывается об одном дне из жизни советского заключённого, русского крестьянина и солдата Ивана Денисовича Шухова:
Содержание
История создания и публикации
Рассказ был задуман в лагере в Экибастузе, северный Казахстан, зимой 1950—1951 годов, написан в 1959 году (начат 18 мая, закончен 30 июня) [4] в Рязани, где в июне 1957 года Александр Исаевич окончательно поселился по возвращении из вечной ссылки. Работа заняла меньше полутора месяцев.
В 1961 году создан «облегчённый» вариант, без некоторых наиболее резких суждений о режиме.
В редакции «Нового мира»
После речи Хрущёва на XXII съезде КПСС машинописный экземпляр [6] рассказа 10 ноября 1961 года был передан Солженицыным через Раису Орлову, жену друга по камере на «шарашке» Льва Копелева,— в отдел прозы редакции журнала «Новый мир», Анне Самойловне Берзер. На рукописи автор указан не был, по предложению Копелева Берзер вписала на обложку — «А. Рязанский» (по месту жительства автора).
8 декабря Берзер предложила ознакомиться с рукописью появившемуся после месячного отсутствия главному редактору «Нового мира» Александру Твардовскому: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь».
В ночь с 8 на 9 декабря Твардовский читал и перечитывал рассказ. 12 декабря в рабочей тетради он записал:
…Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского (Солженицына)… [7]
9 декабря Копелев сообщил телеграммой Солженицыну: «Александр Трифонович восхищён статьёй [8] ».
11 декабря Твардовский телеграммой попросил Солженицына срочно приехать в редакцию «Нового мира».
Первые отзывы. Редакционная работа
В декабре 1961 года Твардовский дал рукопись «Ивана Денисовича» для прочтения Чуковскому, Маршаку, Федину, Паустовскому, Эренбургу. По просьбе Твардовского они написали свои письменные отзывы о рассказе. Твардовский планировал использовать их при продвижении рукописи к печати.
Чуковский назвал свой отзыв «Литературное чудо»:
Шухов — обобщённый характер русского простого человека: жизнестойкий, «злоупорный», выносливый, мастер на все руки, лукавый — и добрый. Родной брат Василия Тёркина. Хотя о нём говорится здесь в третьем лице, весь рассказ написан ЕГО языком, полным юмора, колоритным и метким. [14]
В то же время «Иван Денисович» начал распространяться в рукописных и машинописных списках-копиях.
Члены редакционной коллегии «Нового мира», в частности, Дементьев, а также высокопоставленные деятели КПСС, которым текст был также представлен для ознакомления (заведующий сектором художественной литературы Отдела культуры ЦК КПСС Черноуцан), высказали автору произведения ряд замечаний и претензий. В основном они были продиктованы не эстетическими, а политическими соображениями. Предлагались и поправки непосредственно к тексту. Как указывает Лакшин, все предложения тщательно фиксировались Солженицыным:
Солженицын позже с иронией писал об этих требованиях:
И, самое смешное для меня, ненавистника Сталина, — хоть один раз требовалось назвать Сталина как виновника бедствий. (И действительно — он ни разу никем не был в рассказе упомянут! Это не случайно, конечно, у меня вышло: мне виделся советский режим, а не Сталин один.) Я сделал эту уступку: помянул «батьку усатого» один раз… [16]
«Иван Денисович», Твардовский и Хрущёв
Речь идёт о поразительно талантливой повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имён нашей литературы.
Это не только моё глубокое убеждение. К единодушной высокой оценке этой редкой литературной находки моими соредакторами по журналу «Новый мир», в том числе К. Фединым, присоединяются и голоса других видных писателей и критиков, имевших возможность ознакомиться с ней в рукописи.
Никита Сергеевич, если Вы найдёте возможность уделить внимание этой рукописи, я буду счастлив, как если бы речь шла о моём собственном произведении. [18]
В сентябре Лебедев в часы отдыха стал читать рассказ Хрущёву. Хрущёв был потрясён и распорядился предоставить в ЦК КПСС 23 экземпляра «Ивана Денисовича» для ведущих деятелей КПСС.
15 сентября Лебедев передал Твардовскому, что рассказ Хрущёвым одобрен. [19]
12 октября 1962 года под давлением Хрущёва Президиум [20] ЦК КПСС принял решение о публикации рассказа, а 20 октября Хрущёв объявил Твардовскому об этом решении Президиума. [21]
В период с 1 по 6 ноября появилась первая журнальная корректура рассказа.
В 1982 году в радиоинтервью к 20-летию выхода «Одного дня Ивана Денисовича» для Би-би-си Солженицын вспоминал:
Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора журнала — нет, повесть эта не была бы напечатана. Но я добавлю. И если бы не было Хрущёва в тот момент — тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал Сталина ещё один раз — тоже бы не была напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, подобно явлению против физических законов теперь, по реакции западных социалистов, видно: если б её напечатали на Западе, да эти самые социалисты говорили бы: всё ложь, ничего этого не было, и никаких лагерей не было, и никаких уничтожений не было, ничего не было. Только потому у всех отнялись языки, что это напечатано с разрешения ЦК в Москве, вот это потрясло. [22]
«Иван Денисович» вышел в свет
30 декабря 1962 года Солженицын был принят в члены Союза писателей СССР.
Потоком поступали Солженицыну письма читателей:
…когда напечатался «Иван Денисович», то со всей России как взорвались письма ко мне, и в письмах люди писали, что они пережили, что у кого было. Или настаивали встретиться со мной и рассказать, и я стал встречаться. Все просили меня, автора первой лагерной повести, писать ещё, ещё, описать весь этот лагерный мир. Они не знали моего замысла и не знали, сколько у меня уже написано, но несли и несли мне недостающий материал. [30]
…так я собрал неописуемый материал, который в Советском Союзе и собрать нельзя, — только благодаря «Ивану Денисовичу». Так что он стал как пьедесталом для «Архипелага ГУЛАГа» [31]
В годы застоя
После отставки Хрущёва тучи над Солженицыным стали сгущаться, оценки «Ивана Денисовича» стали приобретать иные оттенки. Примечателен отклик первого секретаря ЦК КП Узбекистана Рашидова, выраженный в форме записки в ЦК КПСС 5 февраля 1966 года, где Солженицын прямо назван клеветником и врагом «нашей замечательной действительности»:
Окончательно Солженицын отредактировал текст в апреле 1968 года.
Снова «Один день Ивана Денисовича» издаётся на родине с 1990 года.
Краткий анализ
Впервые в советской литературе читателям были правдиво, с огромным [источник не указан 38 дней] художественным мастерством показаны сталинские репрессии.
Рассказывается об одном дне из жизни заключённого Ивана Денисовича Шухова:
Ивана Денисовича я с самого начала так понимал, что не должен он быть такой, как вот я, и не какой-нибудь развитой особенно, это должен быть самый рядовой лагерник. Мне Твардовский потом говорил: если бы я поставил героем, например, Цезаря Марковича, ну там какого-нибудь интеллигента, устроенного как-то в конторе, то четверти бы цены той не было. Нет. Он должен был быть самый средний солдат этого ГУЛАГа, тот, на кого всё сыпется.
Повесть начинается со слов:
В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака.
и заканчивается словами:
Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый.
Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.
Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось…
Критика и отзывы
Вокруг публикации развернулась острая полемика.
Первая рецензия, написанная Константином Симоновым, «О прошлом во имя будущего», появилась в газете «Известия» буквально в день публикации «Ивана Денисовича»:
Лаконичная и отточенная проза больших художественных обобщений Повесть «Один день Ивана Денисовича» написана рукой зрелого, своеобычного мастера. В нашу литературу пришел сильный талант. [36]
22 ноября — статья Г. Бакланова «Чтоб никогда не повторилось» в «Литературной газете»:
Среди ежемесячного, ежедневного потока литературных произведений, в разной степени талантливых, отвечающих различным читательским вкусам, являются вдруг книги, знаменующие собой гораздо большее, чем даже появление нового выдающегося писателя. Верится, однако, что человеку этому предстоит многое сказать людям. [37]
23 ноября — статья В. Ермилова «Во имя правды, во имя жизни» в газете «Правда»:
В нашу литературу пришел писатель, наделенный редким талантом. …как это свойственно истинным художникам, рассказал нам такую правду, о которой невозможно забыть и о которой нельзя забывать, правду, которая смотрит нам прямо в глаза. Повесть А. Солженицына, порою напоминающая толстовскую художественную силу в изображении народного характера, особенно значительна в том, что автор целиком сливается со своим изображаемым героем и мы видим все изображаемое в произведении глазами Ивана Денисовича. [38]
Неприятие рассказа «литературными генералами» было обозначено в аллегорическом стихотворении Николая Грибачёва «Метеорит», опубликованном в газете «Известия» 30 ноября.
В ноябре под свежим впечатлением от «Одного дня Ивана Денисовича» Варлам Шаламов писал в письме автору:
Повесть — как стихи — в ней всё совершенно, всё целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного — ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперёд — всё, что идёт с недомолвками, в обход, в обман — приносило, приносит и принесёт только вред.
Есть ещё одно огромнейшее достоинство — это глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудожественная работа мне ещё не встречалась, признаться, давно.
Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Таких подробностей в повести — сотни — других, не новых, не точных, вовсе нет.
Вся Ваша повесть — это та долгожданная правда, без которой не может литература наша двигаться вперёд. [39]
8 декабря в статье «Во имя будущего» в газете «Московская правда» И. Чичеров написал, что Солженицын неудачно выбрал в качестве главного героя повести крестьянина Шухова, нужно было бы усилить «линию» Буйновского, «настоящих коммунистов, партийных вожаков». «Трагедия таких людей почему-то мало интересовала писателя». [40]
На историческое литературное событие живо откликнулась эмигрантская печать и критика: 23 декабря в «Новом русском слове» появилась статья Мих. Корякова «Иван Денисович», а 29 декабря «Один день Ивана Денисовича» вышел впервые за рубежом на русском языке (в газете «Новое русское слово»; газета печатала рассказ частями, вплоть до 17 января 1963 года). 3 января 1963 года Г. Адамович написал статью о Солженицыне под рубрикой «Литература и жизнь» в газете «Русская мысль» (Париж).
В январе 1963 года появились статьи И. Друцэ «О мужестве и достоинстве человека» (в журнале «Дружба народов», № 1):
Небольшая повесть — и как просторно стало в нашей литературе! [41]
Ф. Кузнецова «День, равный жизни» (в журнале «Знамя», № 1):
За внешней сдержанностью ощущается огромная нравственная сила автора [42]
в марте — В. Бушина «Насущный хлеб правды» (в журнале «Нева», № 3), Н. Губко «Человек побеждает» (в журнале «Звезда», № 3):
Лучшие традиционные черты русской прозы XIX века соединились с поисками новых форм, которые можно назвать как полифоничность, синтетичность [43]
В 1964 года издана книга С. Артамонова «Писатель и жизнь: Историко-литературные, теоретические и критические статьи», куда была оперативно включена статья «О повести Солженицына».
В январе 1964 года в журнале «Новый мир» опубликована статья В. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги»:
Если бы Солженицын был художником меньшего масштаба и чутья, он, вероятно, выбрал бы самый несчастный день самой трудной поры лагерной жизни Ивана Денисовича. Но он пошёл другим путём, возможным лишь для уверенного в своей силе писателя, сознающего, что предмет его рассказа настолько важен и суров, что исключает суетную сенсационность и желание ужаснуть описанием страданий, физической боли. Так, поставив себя как будто в самые трудные и невыгодные условия перед читателем, который никак не ожидал познакомиться со «счастливым» днём жизни заключённого, автор гарантировал тем самым полную объективность своего художественного свидетельства… [44]
30 января — статья С. Маршака «Правдивая повесть» в газете «Правда»:
Повесть написана с тем чувством авторского достоинства, которое присуще только большим писателям… Эта повесть не о лагере — о человеке. [45]
11 апреля под заглавием «Высокая требовательность» «Правда» опубликовала обзор писем читателей о повести «Один день…», в то же время из «Нового мира» (№ 4) была изъята подборка писем читателей «Ещё раз о повести А. Солженицына „Один день Ивана Денисовича“».
Характер споров вокруг рассказа обозначен Чуковским. В своем дневнике, опубликованном много лет спустя(в 1994 году), Корней Иванович записал 24 ноября 1962 года:
…встретил Катаева. Он возмущён повестью «Один день», которая напечатана в «Новом Мире». К моему изумлению, он сказал: повесть фальшивая: в ней не показан протест. — Какой протест? — Протест крестьянина, сидящего в лагере. — Но ведь в этом же вся правда повести: палачи создали такие условия, что люди утратили малейшее понятие справедливости и под угрозой смерти не смеют и думать о том, что на свете есть совесть, честь, человечность. Человек соглашается считать себя шпионом, чтобы следователи не били его. В этом вся суть замечательной повести — а Катаев говорит: как он смел не протестовать хотя бы под одеялом. А много ли протестовал сам Катаев во время сталинского режима? Он слагал рабьи гимны, как и все (мы). [47]
Осенью 1964 года в «самиздате» стал распространяться анонимный (написанный В. Л. Теушем) анализ основных идей повести. Этот анализ очень точно был оценён «литераторами в штатском»:
Когда бывшие зэки из трубных выкликов всех сразу газет узнали, что вышла какая-то повесть о лагерях и газетчики её наперехлёб хвалят, — решили единодушно: «опять брехня! спроворились и тут соврать». Что наши газеты с их обычной непомерностью вдруг да накинутся хвалить правду — ведь этого ж, всё-таки, нельзя было вообразить! Иные не хотели и в руки брать мою повесть. Когда же стали читать — вырвался как бы общий слитный стон, стон радости — и стон боли. Потекли письма. [50]
На сцене и экране
Издания
В связи с большим количеством изданий, перечень которых существенно влияет на объём статьи, здесь приведены лишь первые или отличные от других издания.
На русском языке
На других языках
Интересные факты
Название рассказа является расшифровкой англоязычного дитлоида-акронима DITLOID = One Day In The Life Of Ivan Denisovich.
См. также
Примечания
Литература
Ссылки

Россия в обвале (1998) · Размышления над февральской революцией (2007)
Двести лет вместе (2001—2002)