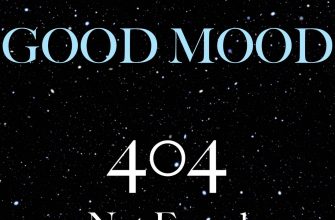Жестокий голод и холод
Утром, 13 сентября 1941 г. мы приехали в Ленинград к нашим дачникам на Суворовском, д. 13. Немцы заняли Александровку почти по нашим следам. Мы вошли в квартиру, мама села к столу, уронила голову на руки… и ни до этого, ни потом, за всю жизнь я не слышала такого плача, крика, такой горькой истерики. В чужом городе, без жилья, в летних вещах, без продуктов и карточек с тремя детьми, а ведь ей было всего 38 лет, и впереди 900 дней блокады.
Папа сразу же поехал на Тучков пер. к своему другу, но… тот его не пустил даже на порог. Вот так друзья познаются в беде (кстати сказать, вся семья их умерла в блокаду). Нас приютили наши дачники (которых мы и знали-то всего 2 года) в проходной комнате большой коммунальной квартиры.
Отец ушел в ополчение (ему было 62 года), сестра Муся работала в госпитале нянечкой, брала меня туда, я помогала ей, раненым, даже концерт устроили, и я пела в палатах. Кольцо блокады уже совсем охватило город.
Октябрь месяц. Народу на улицах было мало, бегали только кошки и собаки. Все больше пустели дома. Мы с оставшимися ребятами лазали на крыши. Квартиры в домах были открытые, брошенные с вещами, сколько мы видели открытых квартир, заходили, смотрели, как жили люди, но никто не брал чужого. Я потом вспоминала, ведь все было открыто, бери, что хочешь (сейчас бы все растащили), но, видимо, эта общая беда чувствовалась детьми. Хлеба убавили…Все время хотелось есть. Папа пришел на несколько дней домой, принес столярный клей – плитки (как шоколад), и мы варили из него студень. Горчицы, перцу было полно. Ели, аж во рту и желудке горело, но «вкуснота» необыкновенная. Этого хватило на 2-3 дня, т.к. угощались все в квартире. Потом папа принес «гужи» — это сыромятные кожаные ремни, пропитанные дегтем от хомута к оглобле. Папа выжигал в печке деготь, потом день лежало в воде, отскабливали горелое и варили – ах! какой был студень с мясом и горчицей.
Хлеб опять урезали. Объявили о выдаче крупы: 200 г и 100 масла растительного на месяц только на детские и рабочие карточки. Очень холодно. Окна все выбиты от бомбежек, дров нет, пока еще возможно рубили скамейки, на разрушках выбирали деревянное и несли домой.

Мы лежали втроем на кровати в пальто, обуви и под кучей одеял. Жильцы почти все уехали в эвакуацию, наш хозяин тоже, мы остались в его комнате одни. И вот мы ждали, когда хлопнет дверь и появится мама с хлебом. 125-граммовый крошечный черно-зеленый глиняный кусочек, чуть больше спичечного коробка, я до сих пор помню этот «золотой» кусочек. И уже не было родственных чувств, каждый дрожал над своей порцией. Мама делила хлеб на 5 частей и каждый берег свой кусочек, свою крошку за пазухой. Папа! Мой большой добрый папа следил за дележкой, с недоверием, тут же заворачивал хлеб в тряпочку и съедал его под одеялом, а потом все плакал и просил есть, считал, что ему досталось меньше. Только мама отщипывала от своего кусочка – крошечки и, как конфетку, давала Алику.
Представить трудно, только 125 г хлеба и ничего больше. Чтобы было ощущение сытости хлеб подсушивали на печурке и варили в большом количестве воды (каждый свою порцию отдельно – семьи уже не было).
Холод! Холод! Печурку топили только раз в день – берегли топливо. Свет – «фитюльку» тоже берегли. «Фитюлька» — это в блюдце наливали какую-то (не помню) жидкость, крутили фитиль из ваты и клали в блюдце. Свечек не было. Папа с работы долго не приходил. И вот вечером до нас добралась женщина и сообщила, что папа упал на улице – у него отнялись ноги от голода. Мама с Мусей привезли его на саночках домой. Это был конец ноября.
Отец уже не поднялся, он лежал и все просил есть, почему-то какао с булкой (хоть раньше и не пил его). Холод был везде: на улице, в доме… Мы мечтали согреться. Окна все были без стекол, заткнуты чем попало. В окна же и выливали нечистоты. Снег был вокруг весь грязный. Встала проблема питья – вода! Вот тут нас и спасла та бомбежка, когда нас заливало в убежище. Сил уже не было и до Невы было далеко, да и не дойти. На дороге около кинотеатра в снегу были прокопаны, пробиты лунки и в них сочилась вода, а вокруг, как кукушки, сидели дистрофики, закутанные до глаз (мороз до –40), и ждали, когда насочится вода в кружечку или ковшичек. Так, я в течение (не помню), наверное, часа-полутора набирала бидончик (3 л) воды. Потом я одеревеневшими ногами еле-еле поднималась на 3-й этаж – все чай был на день. Да! Только чай! А помыться – увы! Только мечтали. Не мылись с конца ноября 1941 г. по февраль 1942 г. (кому неприятно, не читайте), но вши были частью нашего бытия – голода; одежда приклеивалась к телу. На улице людей почти не видно. Вечером (кто мог ходить на работу) шли по узкой тропке, протоптанной только посередине Суворовского, и чтоб не столкнуться лбами, на груди была прицеплена бляшка фосфорная, она светилась в темноте.
Я все еще выползала на поиски дров и съестного. У нас на 5-й Советской была маленькая пекарня и рано утром рабочий выносил ведро с золой, видимо, когда в печь ставили формы с хлебом, капельки теста капали в золу. И вот я, и несколько окрестных мальчишек ждали с 5-6 утра выхода этого рабочего, и в темноте в драку лезли за крошками, рылись в золе, обдирая ногти. Домой я приносила горсть горелых капель, в 5-литровую кастрюлю наливала воды и ставила на печурку, сыпала туда драгоценную горсть, затем перец, соль, горчицу, закипит – пахнет хлебом. Выхлестаю всю сразу и отвалюсь тут же на пол спать. Ногти были почти до половины содраны от угля и золы – мыться все также было нечем, берегли воду. И никакой заразы.
Папа уже еле дышал и в ночь с 9 на 10 января 1942 г. он умер. Мы еле-еле втроем перенесли его в неотапливаемую комнату, и там он пролежал целый месяц, т.к. мама с трудом ходила и помочь было некому. В феврале прибавили хлеба. Мама отдала 200 г хлеба за гроб, и его на саночках свезли на Большеохтинское кладбище. Мама была верующая и хотела похоронить его по-человечески, но его вытряхнули из гроба в общую могилу, а гроб забрали следующему…
Дома был жестокий холод. Сожгли книги, стулья, печурку топили утром чуть-чуть и вечером. Я всегда стояла около печурки, грелась, на животе пальто и кофта прогорели до дыр, я затыкала эту дырку тряпкой, когда шла на улицу. Спали в пальто под одеялами и матрасами сверху. Температура на улице была от 25 до 40, да и в доме чуть теплее. И это не один-два дня, а ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Муся ушла на казарменное положение, и ей разрешили взять Алика с собой. Мы остались с мамой вдвоем, я уже мало выходила, сил не было подниматься на 3-й этаж, лежала под одеялом и все вспоминала свое безоблачное детство, свою Александровку, сытую жизнь и все ждала, вот отгонят немцев и мы вернемся домой и все будет по-старому… Хлеба прибавили, кажется, по 250 г и даже выдали на месяц 200 г крупы на детскую карточку. Маме стало хуже, ее подобрали на улице и увезли в больницу на Старорусскую улицу, диагноз – дистрофия последней стадии. Мне сообщили на 3-й день, я не знала, где ее и искать, плакала какими-то сухими слезами. Но пришла закутанная бабушка, которая оказалась девушкой из ПВО, и сообщила мне, предлагала пойти с ней, но я осталась. Она оставила мне кусочек сухарика и ушла… Я осталась одна. Огромная холодная квартира и никого. Сначала я еще выходила за хлебом и на промысел, но пекарня не работала, суп уже не давали, кончились спички – нечем топить, нечем заправить «фитюльку»… Я лежала под одеялами и тихо замерзала, опять думала про довоенную жизнь, про еду, еду, еду… Как все было вкусно, даже какао, которое я терпеть не могла.
Март месяц. Немного потеплело, но началась цинга. Я пальцами расшатывала зубы и вытаскивала их. Ноги покрылись нарывами, чесотка и прочее – а теперь о нас говорят, подумаешь – дети блокадники?! И вот в один из мартовских дней доела последний кусочек хлеба, поднялась, оделась во что могла потеплее, взяла папины часы и пошла. Опять бомбежка, я переждала в парадном – вроде улетели. Все метят по Смольному! Я знала, что около Мальцевского рынка бывает толкучка, чуть живые люди, и здоровые тетки и дядьки (а я думала, что все голодают) меняли вещи на хлеб. И вот я сменяла папины часы (старинные, в платине) на… 500 г хлеба.
На последнем посту мне не повезло. Увидели и привели в «каптерку» — там топилась печурка. У меня от холода полопались губы и не согнуть было пальцы рук, ноги одеревенели и опухли. Меня накормили, разомлев от забытой жары, я спала целую ночь и день, потом пришел командир, дал мне кусок хлеба, кусочек сахара. Я ему все рассказала. Он говорит: туда нельзя, не дойдешь. Поедем в детский дом, там тебя накормят, оденут. И я поехала. Они дали мне 2 горбушки хлеба с собой и меня повезли на машине в Александро-Невскую Лавру – там во время блокады был организован детприемник. Об этом никто никогда не вспоминает, а ведь сколько детей спасли от смерти. В этот детприемник привозили, приносили детей, с улиц, искали по квартирам, их поили, кормили, отогревали и тело, и душу.
Наступила весна, городу, заваленному, залитому нечистотами, грозила эпидемия. Вылезли все живые, полуживые люди чистить свой Ленинград. Все верили в победу, в то, что блокада кончится (увы, впереди было еще около 800 дней), еле двигая ногами, тащили кто, что мог, сгребали (даже руками) грязный снег и грузили на машины (военные дали). Никому не платили – деньги были не в ходу, да об этом даже и не говорили (разве теперешние пойдут, не голодные и не умирающие бесплатно работать?). Вывели и нас (было в детском доме нас всего около 40 человек), и мы лопатками с капелькой грязного снега – больше не поднять, чистили город. И вычистили, и выжили.
После страшной зимы люди мечтали выехать на «Большую землю» — это так называли всю страну за блокадой. Эвакуация шла только по «Дороге жизни», но уже по воде. И Смольный объявил эвакуацию всех выживших детей, и в первую очередь детдома…
Труд, голод, страх и надежда: ветеран вспоминает жизнь в тылу в войну
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости, Елена Жаркова. Мальчишки и девчонки, родившиеся в 1930-е годы, на протяжении долгих четырех лет Великой Отечественной войны боролись за выживание и, как могли, помогали оставшимся в тылу матерям и бабушкам. Когда началась война, Володе Илюшкину не было и четырех лет, но ему пришлось очень быстро повзрослеть. Сейчас, в свои 80, он прекрасно помнит, как трудился в колхозе, голодал, боялся и надеялся на то, что когда-нибудь война закончится и отец вернется домой живым и здоровым.
О том, как выживали дети войны, Владимир Илюшкин рассказал корреспонденту РИА Новости.
Как закончилось детство
Его детство закончилось в июне 1941 года, когда отец ушел на фронт.
«Вечером поздно пришел отец домой – он работал трактористом в колхозе – и сказал: «Завтра я ухожу на войну». На следующий день он приехал к дому на тракторе. Поднял меня на гусеницу, потом на трактор и дал подержаться за рычаг. И вот я еду по деревне с ним, и гордость такая – трактор мне доверили! Не понимал, куда уходит отец и что он может не вернуться», — рассказывает Владимир Дмитриевич.
Тракторист из деревни Корино Шатковского района Горьковской области Дмитрий Андреевич Илюшкин отправился на фронт 24 июня 1941 года. Дома осталась жена и четверо детей: три дочери, которым было 1 год, 6 и 8 лет и сын, которому вот-вот должно было исполниться 4 года. Мальчик остался единственным мужчиной в семье, и на его хрупкие плечики легли совсем не детские заботы.
«Я уже знал, где топор лежит, как его подточить, где взять молоток, как гвоздь пристукнуть. У нас была своя скотина – корова, теленок, овцы. Нужно было за всеми ухаживать», — вспоминает Владимир Дмитриевич.
Вместе со старшими сестрами он помогал в колхозе. Уже на следующее лето пятилетнему Володе доверили возить сено с полей. Мальчик сам управлялся с телегой и норовистой лошадью, помогал женщинам с погрузкой, даже научился менять колеса и чинить старую повозку. Он не жаловался – видел, что всем тяжело. Только жалел младшую сестренку Катю – та все время просила есть.
Голод длиною в несколько лет
Есть хотелось всегда. Все собранное зерно отправляли на фронт. Питались тем, что давало подсобное хозяйство, за которым следили сами дети – матери с утра до ночи трудились в колхозе. На завтрак, обед и ужин ели картошку и хлеб с лебедой. Мать отдавала детям свою порцию… Настоящим праздником было мясо, но скотину забивали только поздней осенью, и это угощение старались растянуть как можно дольше.
«Мы хотя бы понимали, что такое война. А вот маленькая Катя все время плакала, просила молока. Мама наливала ей стакан воды и добавляла туда ложечку молока. И Катя пила и радовалась», — голос Владимира Дмитриевича дрожит, руки трясутся…