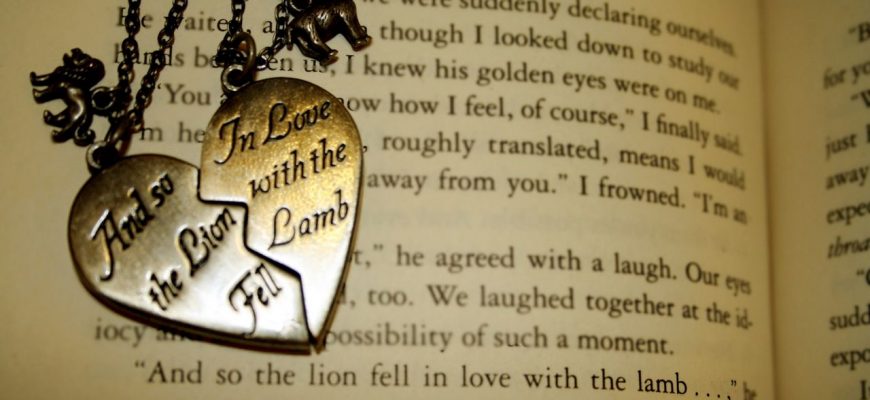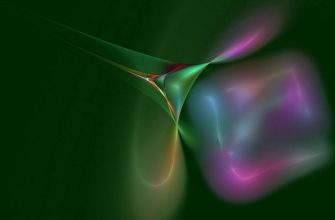Осенью седмь тысящ сто семнадцатого года от сотворения мира, сиречь 1608 года от Р.Х., к Сергиевой лавре подступили войска самозванца и стояли шестнадцать месяцев… Сопротивление монастыря литовским войскам было не менее упорным и героическим, чем оборона Ленинграда и битва за Сталинград.
Об осаде лавры и других событиях Смутного времени повествует живой журнал юноши XVII столетия — «Летописная книжица о смуте в Российском государстве, о геройской защите Троицкого Сергиева монастыря, о пленении и разорении и о конечной погибели царствующего града Москвы, и об иных мятежных делах, достоверно и неложно написанная свидетелем оных, отроком послушником Данилкой».
Сей же Данилка родом отнюдь не из последних людей, а из детей боярских, даже и какому-то очень большому человеку родней приходился, но изменники того человека с некоего высокого места согнали и предали злой смерти. Меня же, Данилку, святые монахи приютили здесь в Троице, и укрыли от злых человекоядных волков — прежде промянутых изменников, подумав: не пришлось бы и этому малому отроку разделить злую и преужасную долю своего троюродного дядьки и прочих родственников.
Потому я и не открываю напрямик своего настоящего рода и прозвания: умный поймет, а врагу или доносчику-кровопийце бог да не даст ума догадаться.
Так с малых лет я оказался у монахов в учениках да на посылках.
А разумом я от бога не совсем обделен, да и в прежние добрые времена, родительскими попечениями, преуспел в разных книжных премудростях, и цифири и риторскому искусству не без пользы обучался. Поэтому не долго я плакал, что не бывать мне царевым боярином, не сидеть в палатах царских и из золотых чарок заморских вин не пивать. Об этом Екклезиаст-мудрец правильно сказал: всё-де суета.
И решил я: стану с усердием к пострижению и иноческому чину готовиться, а как достигну мужеского возраста, буду книги летописные писать. Людям на память, Богу на прославление. Потому что книг писец, если голова не сеном набита, большую волю имеет, совсем как князь какой-нибудь, даже и более. Нужно только хитрость знать: спроста и напрямик не говорить против господского мнения, а окольными словечками даже и о сильнейших людях всю правду можно сказать. А ведь писаное слово долго живет, и до многих будущих потомков дойдет.
А эту книжицу пишу не для людского прочтения, а только сам для себя, упражнения ради. Потом уж, как выучусь, буду красиво писать, и с должным рассуждением, и как подобает. А здесь пока без всякого хитромудрия, в меру ума и по собственному хотению, благо я молод еще годами, с меня и спросу нет.
Вот краткими словами рассказ о том, с чего началась в нашем царстве смута, и как все эти нынешние горькие и злопечальные беды на нас божьим попущением обрушились, и за какие грехи.
А сам-то я толком не знаю, с чего все началось, это наверное только Господь Бог знает, мне же вовек не разобраться. Вот, скажем, царь Иван. (Ино царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, четвертый по числу прежде бывших Иванов царей, Грозный по прозванию).
Царь Иван Васильевич
О нем во многих книгах все подробно рассказано, как он царство Казанское победил и нечестивых булгар себе в рабское покорение привел, как с Литвой целый век воевал, да своих верных слуг и простых людишек всячески притеснял и безвинных смерти предавал. А ведь любят у нас таких царей: хоть злодей, да свой, по-иноземному не чудит, нашим обычаем зло творит.
Был у царя Ивана любимый слуга, из палачей главнейший, во всем государстве первый кровопийца — боярин Гриша Скуратов, по прозванию Малюта. Брал он с охотой на себя многие царевы грехи и невинную кровь. А еще были хитрые бояре, на царский престол с завистью глядевшие, Борис Годунов и братья Шуйские. Эти-то бояре, видя царское к Малюте благоволение, задумали к царю через него приблизиться, самим рук не обагряя. И взял одну малютину дочь в жены конюший боярин Борис Годунов, а другую князь Дмитрий Иванович Шуйский.
И вот ведь как повернулось премудрое и неподвластное разуму колесо судьбы: обоим родам людоедовы дочки принесли удачу, те и другие в свой черед царского престола достигали.
Царство Федора Ивановича
У царя Ивана было три сына: Иван царевич, Федор царевич и Дмитрий царевич. Старший, Иван, еще при жизни отца скончался, и не без отцовского, говорят, доброго напутствия. И когда царь Иван помер, остались по нем наследники Федор и Дмитрий. Дмитрий-то был совсем мал, двух лет от роду, или, может быть, трех, врать не буду. И отправили его с мамками в город Углич на удельное княжение. А Федора помазали на царство.
Этот царь и великий князь Федор Иванович блаженным был от рождения, и по причине слабоумия не мог вверенным ему царством достойно управлять. Только о душевном спасении заботился, а государственных дел не ведал, и слышать о них не хотел.
Пользуясь такой государевой простотой, Борис Годунов скоро всю власть к рукам прибрал, а соперников своих сумел в покорность привести: кого сослал, кого постриг, кого и головы лишил. Даже Шуйские затаились, увидев такое борисово возвышение.
Время настало тихое, и народу любо: и царь-то, почитай, безгрешный, святой, и управление государственное мудрое и добродетельное. В те годы много славных дел совершилось: крымского царя от Москвы с позором прогнали, и шведов на севере сильно побили, вернули исконные российские города Иваньгород, Корелу и Копорье, и многие земли у Варяжского моря. С Литвой же был длительный мир заключен.
Об убиении царевича Димитрия
Но свершилось тогда же и злое дело, многих великих бед начало: некие разбойники Микитка Кочалов и Михалка Битяговский зарезали в Угличе царевича Дмитрия, малое невинное дитя.
Царь же Федор, узнав об этом, принялся слезы лить да причитать, а дознания не умел учинить, поскольку ума ему бог не дал. А поехал в Углич дознаваться правды не кто-нибудь, а сам боярин князь Василий Иванович Шуйский, он же у нас нынче царем на Москве сидит. Этот-то князь Василий потом много всякого разного говорил об углическом злодеянии. Сперва народу было сказано: царевич-де падучей болезнью страдал, и сам в припадке ножом зарезался. Это сказали вслух, а в уши иное шептали: сам, мол, Борис Годунов убийц к царевичу подослал.
После князь Василий еще не раз свои слова переменял, как о том речь впереди будет, весь изолгался, бог ему судья, а у меня нет ему никакой веры. Проще сказать: неведомо по сей день, что там было в Угличе взаправду. От себя же добавлю, осмелюсь, что не один Борис смерти царевича мог бы желать, были и иные доброхоты, прямо не скажу ни на кого, хоть и мог бы помянуть некие роды, что на шубном промысле разбогатели, а после выше всякого понимания и смысла вознеслись.
Рассказ романовского троица читать ключевые слова
Зал дружно засмеялся, захлопал в ладоши и хлопал долго, до тех пор, пока Варя не догадалась, что люди хотят послушать ее еще раз. Второй раз она прочитала еще Звонче, чем первый. И в том месте, где хвастливая муха задирает нос, Варя вздернула лицо, а нос, будто дразня кого-то в классе, приплюснула пальцем. Как это у нее получилось, она сама не поняла, может, и не надо было этого делать. Только зал засмеялся и бил в ладоши еще громче первого раза. В третий раз она читать не решилась, поклонилась публике и под прощальные аплодисменты ушла со сцены.
Женщина в красном галстуке целовала ее и говорила приятные слова. Поздравляли Варю и другие незнакомые люди.
А Варе очень хотелось спать и найти дядю Тимофея. Варя нашла его там, где раздевались. Дядя Тимофей караулил гору ее одежды, и лицо его было мрачным.
— Варюшка, — пожаловался он, — а я пробегал, проискал зрительный зал и тебя не слышал. Понастроили дверей, ходи разбирайся.
— Дядя Тимофей, не расстраивайтесь. Я для вас сколько хотите прочитаю.
— Не в этом дело. Я матери твоей обещал все как есть высмотреть и выслушать и доложить, как народ тебя встречал. Что я ей скажу? Если бы сочинять я умел, а то ведь нет! Народ вон выходит. Пойдем оденемся в сторонке.
И дядя Тимофей, забрав Варину одежду, отошел в сторонку, а девочка за ним…
Ближе к ночи Таня понесла отцу ужин в степь — отец в ночную работал на комбайне, убирал хлеб.
Белым облаком облачил туман все тропинки и дорожки, и девочка заплуталась.
Она крепко прижимала к себе хозяйственную сумку с ковригой теплого хлеба и бутылкой, в которой бултыхалось молоко, и забрела невесть куда.
Под ногами захлюпало болото, и Таня, мокрая насквозь, не знала, что и делать, только тихо плакала и, ступая наугад, несла над головой сумку, из которой текло молоко.
И все-таки она выбралась на сухое — на скошенное поле.
По полю колесом катился туман.
— Папа-аа! — громко крикнула девочка в темноту, и голос ее скоро погас в тумане, таком густом, что она шла, выставив вперед руку — на всякий случай, чтобы не наколоть глаза.
Вот рука ее уперлась в свежую солому — длинный соломенный стог, который зовется ометом. Девочка зарылась в него, положила сумку под голову и, дрожа и согреваясь, не заметила, как крепко заснула.
Она проснулась от холода и от какого-то близкого сокрытого движения и, не шелохнувшись, открыла глаза.
Туман ослаб, и близко от Тани на стерне кормились большие серые птицы и негромко переговаривались между собой.
Это были гуси, только не домашние, а дикие, и все они искали зерна в стерне, кроме сторожевого гусака, что недалеко от девочки держал голову на долгой шее и прислушивался, что творится ночью в степи, нет ли опасности.
У девочки затекли руки и ноги. Она лежала в самой середине дикой стаи, и ей было жутко и хорошо, оттого что она сама, как вольная птица, прислушивается к птичьему разговору, затерялась в степи и, будь у нее за спиной живые крылья, — полетела бы вместе со стаей в неведомые страны.
Руку у Тани свело судорогой, девочка пошевелила пальцами — сторожевой гусь повернул голову к омету, ничего подозрительного не увидел, подошел близко-близко и с негромким криком, предупреждающим об опасности, тяжело захлопал крыльями и поднялся в воздух.
Все поле наполнилось хлопаньем крыльев. Оно катилось волнами, и, когда стихло, девочка услышала в низине голос комбайна.
Таня встала и, озябнув, побежала на голос машины.
Она бежала долго, задохнулась, пошла шагом и увидела комбайн, который плыл по грудь в тумане.
— Папа-аа! — закричала она и заплакала. — Ааа…
И железная громадина, которая касалась вершиной своей звезд на небе, остановилась, постояла посреди поля, а сверху отцовский голос позвал:
— Дочка, полезай ко мне.
А она стояла и плакала, и не было у нее сил взобраться на такую высокую железную гору.
Отец спустился на землю, взял Таню на руки, и она задохнулась от запаха зерна, горячего железа и отцовского тепла — родного, как тепло матери.
Лицом, всей собой она зарылась в это тепло, и обильные слезы потекли из ее глаз. Она все хотела, да не могла выговорить «папа, папочка», и у нее получалось протяжное, как стон радости: «Ааа…»