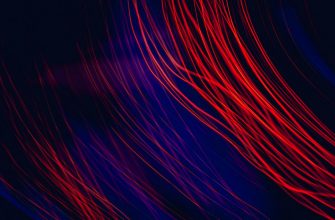Рассказ степан и его друзья скрипов
Пришел, батюшки в баньке нету. Иду в дом, а он, как был в одеже и в сапогах, лежит на кровати, прямо на покрывале, вся комната в дыму, окурков на полу набросано, и темно, свету нет.
– Не нашел? – спрашивает.
– Нет, – отвечаю, а сам дрожу весь, боюсь. Зажег я лампу, сел батюшка на постели, лицо щупает.
– Митька! Прости ты меня! – говорит.
Ну тут не выдержал я, заревел. Батюшка поглядел на меня, помолчал, вынул из-под подушки десятку, дает мне.
– Беги, – говорит, – за водкой…
Побежал я, принес… Батюшка встал, налил стакан, выпил. Потом еще выпил и в десять минут прикончил бутылку без закуски. Посидел немного, лезет опять под подушку, дает мне еще денег: беги! Я опять побежал в лавку, взял еще бутылку. Выпил батюшка и ее, повалился прямо в одеже на кровать и уснул. Ну, смотрю, наутро работать не идет, сидит опухший, всклокоченный, на меня не глядит. Ушел я куда-то по делу, днем прихожу, а он снова пьяный, ходит по огороду, петляет, лазит чего-то по снегу…
И так пошло с того самого дня. Запил отец окончательно, откуда что взялось! Пропил все деньги, что за туфли взял, стал пить на те, кои прикоплены у нас были. Ходил я его искать по разным домам, по мерзким бабам, по кабакам, сколько муки вытерпел с ним. Чего я только не пробовал! Ругал его, просил, плакал – ничего не помогало. Сам все понимал и страдал, но пить не бросал. Главное, перед матерью ему было обидно. Напьется и плачет.
– Марьюшка! – кричит. – Прости ты меня, подлеца, тебе мечтал туфли сшить розовые, как утренняя зорька! Недолюбил я тебя при жизни и после смерти тебе изменил: продал свою мечту за сто рублей!
Чем дальше, тем было все хуже. Водка уж такой яд: затянет, не вырвешься. В каких-нибудь три месяца опустился отец страшно, на себя похож не стал. Честный был всю жизнь, а тут стал обувь заказчиков в кабаке закладывать и пропивать. Воевал, крест Георгиевский имел, горд был своим геройством, а летом, когда денег совсем не стало и нечего уж было из дома продать, нищенствовать стал, ранами своими похваляться. На ярмарки ходить стал, лазаря петь со слепцами, ногу свою изуродованную обнажать.
Видел я его раз в Дорогобуже издали, в пыли сидел, ногами сучил, жалобно таково выводил: «Дай вам Господи здоровья, люди добрые, помоги вам Бог, призрели вы калеку сирую!» – так чувствительно выговаривал, тянул, со слезой, а сам в Бога не верил никогда, а в последнее время так совсем ругался в Бога страшными словами.
Ужасная жизнь настала для меня! Бился я, сам брал заказы, старался, а чуть денег заработаю, стащит ведь отец! Ко мне он переменился, ругал нехорошо, колотил, раз даже с топором за мной по усадьбе гонялся.
Я уж сбежать хотел куда глаза глядят, как в один час все кончилось. Уж не знаю, как вышло, но только возвращался батюшка домой с Дорогобужа пьяный, петлял, петлял, а метель ночью поднялась, сбился совсем с дороги и замерз.
Вызвали меня в больницу, пришел я, провели меня в покойницкую… Лежит батюшка мой на столе, серым чем-то покрыт низ, а верх – грудь и голова – открыты. Очень он мне показался большим и плоским. И лицо у него хорошее было. Щетиной, правда, заросло, а так очень умное было выражение и печальное, будто жалел он о чем-то или просил меня чего-то сделать. Эх.
Тяжело мне вам все это рассказывать, да и рассказ-то, считайте, окончен. Стал я после батюшки окончательно на собственные ноги, потом, после революции, в Москву приехал, сперва в артели сапожницкой работал, потом на фабрику поступил.
Теперь уж старик я, модельером работаю на фабрике обувной, и совершенно теперь другая судьба моей работы. Теперь обувь, которую я придумаю, идет в широкое производство, и не только у нас, но и за границей. Туфли мои выставлялись на международных выставках в Брюсселе и в Нью-Йорке, и, говорят, очень иностранцы изумлялись русскому таланту.
Но жалко мне до сих пор батюшку, ему бы да мои возможности! Это был бы гений по своей фантазии, и носили бы его туфли все прекрасные наши женщины!
Дело было осенью, и загорелось однажды осенью северное сияние. Стоял возле тони старый черный крест, еще дедами был поставлен. Раньше на него молились, перед тем как в море выходить. А теперь покосился, надломился и весь ножами изрезан. Идет мимо мальчишка, увидит крест и сейчас же на нем свое имя вырежет: «Толя», там, или «Миша».
Так вот, сидели мы с рыбаками вокруг печки, ухи ждали. Глянул я в окно, смотрю – крест розовый стал. «Что такое? – думаю. – Ночь, темнота, а крест загорелся!» И вышел вон из избы. А как вышел, так и закричал:
Урок краеведения Донской писатель Скрипов
Александр Николаевич Скрипов.
Обзор жизни и творчества
Родился в слободе Маныч-Балабинка Багаевского района Ростовской области. Детство провёл в хуторе Хомутец, затерявшемся в бескрайней ковыльной степи.
Отец – Николай Васильевич, деревенский кузнец. Начинал свою работу спозаранку, при керосиновой лампе и работал до позднего вечера. Крестьяне их окружных хуторов шли к нему с различными заказами: подковать лошадь, сделать лопату, тяпку, кочергу, перетянуть шины на колёсах. В долгие зимние ночи, дома, не разгибая спины, сидел за столом, ремонтировал замки, швейные машинки, стенные и карманные часы. Однажды, угостив детей конфетами сказал: «Чтобы есть всё, что бывает у нас на столе, надо иметь деньги». И предложил детям пойти с ним в кузницу делать деньги. Старательно помогая отцу Саша ждал, когда же из огненного куска железа получится круглая монетка. Но выходили то подкова, то кочерга. Отец объяснил сыну, что « делать деньги» – значит зарабатывать, трудиться.
Мать писателя, Ольга Васильевна, Очень любила песни. Она с песней шила, с песней стирала бельё, с песней готовила пищу. Лучшие песни мать записывала в свой небольшой, с толстым картонным переплётом альбом.
Первым, кто привил детям любовь к красоте природы, к животным, была мать. На всю жизнь Александру запомнились её слова: Нельзя обижать бессловесных животных – кошек, собак, коров, лошадей. Они наши друзья». Авторитет матери был для детей непререкаемым. Она была добра и внимательна не только к своим домочадцам, но и к односельчанам. Она пользовалась среди них большим уважением. Женщины приходили к ней за советом. А некоторые мужчины-пьяницы, устраивавшие скандалы в семьях, побаивались встречаться с нею. Ольга Васильевна читала им такую мораль, что они не знали, куда деться от стыда.
Александр с детства познал тяжёлый крестьянский труд: чистил конюшни, собирал урожай, работал с отцом в кузнице.
Учился в станице Мечётинской в высшем начальном училище. В 1919 году, 14-летним добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Немало огненных вёрст пройдено бойцом Александром Скриповым в годы Гражданской войны Бандитская пуля и дуло кулацкого обреза не раз подстерегали юного комсомольца. С молодым задором он брался за каждое порученное дело: секретарь сельсовета, заведующий избой-читальней, инструктор районо, учитель.
Богатый жизненный опыт, пережитое, заставило Александра Скрипова взяться за перо.
В 1928 году вышла первая книга стихов «Зарницы». Все последующие годы усиленно сочетал литературную и педагогическую работу.
В 1929 году бал принят в члены Всероссийского общества крестьянских писателей, часто печатался в газетах.
В годы Великой Отечественной войны Александр Николаевич участвовал в боях за освобождение Ростова, Украины, Вены. В это время писал много стихов, очерков, которые публиковались на страницах фронтовых газет.
С января 1946 года вновь работает учителем истории и директором сельских школ, оканчивает исторический факультет Ростовского пединститута, становится редактором Луганского и Калмыцкого книжных издательств.
Одна за другой выходят его книги: «Школьный музей», «На просторах Дикого поля», «Поречни и жемчуг».
Для Александра Николаевича Скрипова всегда был характерен интерес к родному краю, его истории. Более 30-ти лет писатель посвятил переводу бессмертного памятника древнерусской культуры «Слова о полку Игореве». Первый перевод был опубликован в 1939 году. Но он не удовлетворил Александра Николаевича. Кропотливая исследовательская работа заняла долгие годы. В результате, литературно-художественный перевод А.Н.Скрипова «Слова о полку Игореве», опубликованный Ростиздатом в 1957 году признан одним из лучших в стране и выдержал несколько изданий.
В 1980 году в Ростове выходит сборник памятников древнерусской литературы: «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Сказание об Азовском осадном сидении» в стихотворных переложениях А. Скрипова.
Александр Николаевич награждён орденом Красной звезды, медалями, а также Почётными грамотами ЦК ВЛКСМ, Академии педагогических наук, Министерства просвещения РФ и другие.
Ушёл из жизни в 1985 году.
1. Бондаренко И. Вступительная статья. //Скрипов А.Н. В цвету родная степь. – Ростов-на-Дону; 1980. – с.5-6.
2. Дон литературный: Писатели России. Шолоховский край 19-21вв. – Ростов-на-Дону; 2006. – с.414-416.
3. Писатели Дона: Биобиблиографический сборник. – Ростов-на-Дону; 1976. – с.211-213.
4. Скрипов А.Н. Добрые дела не умирают. /А.Скрипов. – Ростов-на-Дону; 1985. – 112с.
Вопросы к обсуждению сказки
«Добрые дела не умирают».
1. Почему Дон Ивановичем зовут?
2. Как у Наума появилось прозвище «Скородум»?
3. За что Наум попа наказал?
4. Почему Наум-Скородум оказался в Черкасске, ведь он жил в деревне Ивановка на берегу Иван-озера?
5. Какие растения донского края помогали Науму?
6. Где находится Лукоморье и старый дуб?
7. На какого сказочного героя А.С.Пушкина похож Кащей-волшебник и чем?
8. Какого реального героя донской истории вы узнали в Степане-плясуне?
9. Какие добрые дела Наума-Скородума не забылись, никогда не умрут?
Вопросы к обсуждению сказки
1. Что замечательного было в ковре, вытканном Марьюшкой? Почему ему цены не было?
2. Почему не остался Иван в подземелье у Веснянки, ведь он мог стать самым богатым человеком в мире?
3. За какие качества наградила Веснянка Ивана? Чем?
4. Каким напастям подвергла Ивана Болотная баба? Зачем она это делала?
5. Зачем царь приказал уничтожить ковёр? Почему у него ничего не получилось?
6. Какую цену назначил Иван за избавление от уродства царя и царицы?
7. Какие качества царей высмеивает сказка, оставив жить их с волчьими клыками и ослиными ушами?
Вопросы к обсуждению сказки
1. За что поречня наградила казака жемчугом?
2. Какие зароки потребовала поречня от казаков за богатство?
3. Почему казаки нарушили зарок, данный поречням?
4. Что случилось с поречнями и жемчугом?
5. Чему этой сказкой пытались научить казаки своих детей?
Выхухоль (казачье название поречня) занесена в Красную книгу Донского края, так как нещадно уничтожалась за высокое качество меха
Ракушек-жемчужниц сегодня тоже не встретишь в донских реках.
Безумная трата богатств Дона привела к потере многих видов животных и растений.
5. Бондаренко И. Вступительная статья. //Скрипов А.Н. В цвету родная степь. – Ростов-на-Дону; 1980. – с.5-6.
6. Дон литературный: Писатели России. Шолоховский край 19-21вв. – Ростов-на-Дону; 2006. – с.414-416.
7. Писатели Дона: Биобиблиографический сборник. – Ростов-на-Дону; 1976. – с.211-213.
8. Скрипов А.Н. Добрые дела не умирают. /А.Скрипов. – Ростов-на-Дону; 1985. – 112с.
Планирование » Родная русская литература» 3 класс
Содержимое публикации
Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке » 3 класс
на основе художественных произведений анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края;
с гордостью относиться к произведениям народно – поэтическому наследию Дона, уважительному отношению к русской литературе.
Регулятивные универсальные учебные действия
ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);
составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последовательность собственных действий;
вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае расхождения с предлагаемым эталоном;
оценивать собственные знания и умения;
доводить дело до конца;
Познавательныеуниверсальные учебные действия
находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов, в том числе с помощью компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как источник информации;
проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и времени года;
ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
Коммуникативные универсальные учебные действия
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями.
узнавать народные традиции, обычаи и культурное наследие народов родного края;
сравнивать произведения донских авторов с произведениями авторов русской и мировой литературы.
обогащать жизненный опыт для решения практических задач с помощью наблюдения, сравнения, сбора материала культурно-исторического наследия родного края;
выполнять изученные правила и нормы поведения на примере народных обычаев и культурных традиций своего народа;
оценивать воздействие человека на природу края, выполнять правила поведения в природе и участия в ее охране;
удовлетворять познавательные интересы, в результате поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране и планете в целом;
учиться самосовершенствоваться, в социализации в современном обществе.
Ученик получит возможность научиться :
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине,
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений
ориентироваться в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их героев.
Регулятивныеуниверсальные учебные действия
определять цель, проблему в деятельности;
выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально;
планировать деятельность, используя ИКТ;
работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том числе самостоятельно, используя ИКТ;
оценивать степень и способы достижения цели, самостоятельно исправлять ошибки.
Познавательны е универсальные учебные действия
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
Коммуникативныеуниверсальные учебные действия
излагать своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии;
понимать позицию другого, выраженную в явном и не явном виде (в том числе вести диалог с автором текста);
различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, теории;
корректировать своё мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность;
создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей;
организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения);
преодолевать конфликты: договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого;
использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.
анализировать и оценивать произведение как художественное целое;
выявлять отношение автора к изображаемому и давать произведению личную оценку;
пересказывать узловые сцены и эпизоды изученного произведения;
давать развернутые, аргументированные ответы на конкретные вопросы о сюжете произведения и его составляющих;
писать отзыв о самостоятельно прочитанном тексте;
составлять рассказ об авторе книги;
подготовить доклад, сообщение, эссе об авторе и его произведении;
выразительно читать произведения и его фрагменты, в том числе выученные наизусть;
делать обзор публикаций по литературному краеведению и анализировать их;
работать со справочной и критической литературой;
читать осмысленно и выразительно поэтические и прозаические произведения писателей Дона и о Доне;
находить и самостоятельно читать об истории Донского края, о культурных традициях населения Дона – донских казаках;
составлять отзыв о прочитанных произведениях;
находить в словарях Донских говоров значения диалектных слов и выражений;
воспринимать и чувствовать настроение автора и понимать поэтическое слово как средство выражения чувств автора;
осмысливать общечеловеческие ценности.
Содержание учебного предмета
«Литературное чтение на родном языке » 3 класс(17 часов)
Содержание раздела учебной программы
Номера и темы лабораторных, практических, контрольных работ
Устное народное творчество Дона. Жанровое многообразие фольклорных
Донские казачьи былины.
Особенности донских былин: связь с казачьими строевыми и походными
песнями, краткость сюжета.
Донские народные сказки.
А.П. Платонова «Волшебное кольцо». «Глупец и жеребец», «Казак и лиса». Сказки о животных. Положительные и отрицательные герои.
Малые жанры казачьего фольклора. Пословицы и поговорки. Богатство и
разнообразие тематики. Народная мудрость пословиц и поговорок. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Сходство и различия казачьих пословиц с общерусскими вариантами. Отражение жизни казаков в пословицах и поговорках.
«Фольклорные мотивы у писателей Дона»,
А. Скрипов « Поречни и жемчуг», « Степан и его друзья»П. Лебеденко « Доброе сердце дороже красоты»
П. Лебеденко « Доброе сердце дороже красоты»
«Поэтами воспетый край родной»,
И.Гркдев« Родному Дону»,
А. Сафронов « Ростов – город»
«Природа Донского края»,
Ф.Крюков «Родимый край»
И.Ковалевский« Скворец», « Утренний дождик»
П.Аваков« Три медведя»
Дата урока по плану
Дата урока по факту
Донской фольклор( 5 часов)
Без углов курень не строится, без пословицы речь не молвится
Казачьи народные сказки « Жбан», «Глупец и жеребец»
Казачьи народные сказки» Казак и лиса»,
Казачья народная сказка « Горе- злосчастие»
«Фольклорные мотивы у писателей Дона»( 3 часа)
А. Скрипов « Поречни и жемчуг», « Степан и его друзья»
П. Лебеденко « Доброе сердце дороже красоты»
П. Лебеденко « Доброе сердце дороже красоты»
Поэтами воспетый край родной( 3 часа)
Прочитайте онлайн Любимые рассказы для детей | Скрип-скрип
Дело было осенью, и загорелось однажды осенью северное сияние. Стоял возле тони старый черный крест, еще дедами был поставлен. Раньше на него молились, перед тем как в море выходить. А теперь покосился, надломился и весь ножами изрезан. Идет мимо мальчишка, увидит крест и сейчас же на нем свое имя вырежет: «Толя», там, или «Миша».
Так вот, сидели мы с рыбаками вокруг печки, ухи ждали. Глянул я в окно, смотрю – крест розовый стал. «Что такое? – думаю. – Ночь, темнота, а крест загорелся!» И вышел вон из избы. А как вышел, так и закричал:
– Выходите все, глядите, что делается!
Вышли все на берег моря, головы подняли и смотрим в небо. А небо над нами, как цветной шатер. Над самой головой черная дыра, кажется, а от нее во все стороны – и к западу, и к югу, и к северу, и к востоку – розовые лучи расходятся. Северное сияние!
Луна стала тусклой, окружилась янтарными кольцами. Звезды пропали, только самые крупные красным огнем горят, как огни на мачтах. А небо по розовому вдруг то желтым, то зеленым подергивается.
– К холоду это, – сказали рыбаки. – К непогоде!
Постояли мы еще, посмотрели на диво и опять в избу пошли. А в избе похлебали ухи, поговорили, покурили и спать полегли кто где. Кто внизу, а кто на нары забрался.
Трудно рыбакам осенью. Чуть свет надо в море выезжать, ловушки на семгу ставить. Потом целый день в карбасах на волне качаться, стеречь возле ловушки, чтобы рыбу не прозевать. А вечером опять снимать ловушки.
Раз в день бежит вдоль берега колхозная мотодора, поплевывает дымком, выловленную семгу по тоням собирает, новости развозит, газеты, да письма, да хлеб.
Вот покачаешься целый день на море, повозишься с семгой да с сетями, руки-ноги заколенеют, так потом от усталости хорошо спится. И в эту ночь крепко все спали, а утром проснулись от грохота: пал на море шторм.
Вышли мы из дому, посмотрели на море. Ветер чуть с ног не валит. Грязные лохматые взводни ходуном ходят, даже видно, как на горизонте дыбом поднимаются. Кинулись мы скорей к карбасам, оттащили подальше от воды, чтобы в море не унесло, и грустно собрались опять в избе.
Что станешь делать! В шторм к ловушкам выезжать нельзя, карбасы зальет, потонешь. Да и сети порвет, если удастся поставить, – хочешь не хочешь, надо ждать.
Ждем день, ждем другой. Вот уж и третий настает, а конца шторму не видно. На Белом море по неделям осенью штормит.
Как ни выйдешь на берег, все одна картина: на песке кучи пены, ветер отрывает комки от куч, катит по песку… Вода в море мутная, все так же бросается на берег, и северный ветер свистит не умолкая.
Прождали мы еще день, и вышел у нас хлеб. Совсем заскучали рыбаки без хлеба. И решил я, как самый молодой, идти за хлебом пешком по берегу. Нам уже как-то не верилось, что шторм когда-нибудь кончится и привезет мотодорка хлеба.
– Видишь угорье? Так направо угорья не ходи. Иди сперва берегом, а потом камни будут, неспособно идти, ты и сверни в лес, а там болотом, да опять лесом, да в гору. А подымешься, тут тебе назад море будет видать, а вперед да вниз – озеро. Место красиво, по бокам-то угорье, а в середке внизу озеро. Озеро пройдешь, на другое угорье влезешь, а там и маяк увидишь. Понял? Ступай!
Я и пошел. Прошел, как велено было, берегом, а когда камни начались, свернул в лес. Только в лес свернул, на ручей наткнулся. Хотел повыше перейти, пошел влево по ручью – болото! Чавкал, чавкал сапогами, в такое бучило залез, что и ходу никуда нет.
Пришлось возвращаться назад, к берегу. В лесу-то тихо было, душа отдыхала. А к морю вышел – опять рев, шум, свист! «Что ж делать? – думаю. – Пойду берегом. Хоть и дальше, да вернее».
Небо было мутно и серо, отдельных облаков даже не различишь, все монотонно, и свирепый ветер лицо сечет, гонит по берегу мокрый песок. Лес на глазах начал желтеть, а земля – краснеть.
Росла там какая-то трава лепесточками и была багровая. Иду берегом, море справа, лес слева. Я все на лес поглядываю – на море-то смотреть скучно. А в лесу все разное! Беловатый мох ягель, темно-зеленые лакированные листики брусники, красные пятна травы лепесточками, светло-зеленые островки стелющегося можжевельника. Это внизу. А сверху березы золотятся да рябина горит красным бархатным цветом.
А то вдруг подступят скалы к самому морю, стоят темной стеной, и если тут лечь, то головой в стену упрешься, а ноги в воде будут – так узко. По таким местам я бегом мчался, но все равно волной меня захлестывало, и скоро я так промок, что уж и не спасался.
Переночевал я на маяке, обсушился, а на другое утро нагрузил пестерь свежим хлебом – шесть буханок взял – и тронулся в обратный путь. Вместе со мной пошел Коля, сын смотрителя маяка. В колхоз к дяде шел. Маленький такой, лет восемь ему, а идет смело и ничего не боится.
– Как же ты, – спрашиваю, – в такую даль идешь? Ведь не дойдешь, устанешь!
– А чего! – говорит. – Я уж не в первый раз. На тонях ночевать буду, у рыбаков. Потом на море посмотрел, подумал и говорит: Чего нам берегом идти, в море мокнуть? Пошли горами, тут тропка есть, я знаю.
Никто в ней давно не жил. Мы отомкнули ее и вошли. Внутри было холодно, и на потолке сажа в два пальца толщины, хлопьями, лохматая. Разыскали мы воду, чайник, развели возле избушки костер из щепок и решили еще печь протопить, чтобы не холодно было спать.
Топилась избушка по-черному, без трубы, и, когда печь затопили, сразу стало дымно. Дым плавал под потолком и лениво выползал в отдушину. Внизу был чистый воздух, вверху – плотный сизо-зеленый дым.
Хорошо было Коле, он маленький, а мне, если выпрямиться, дым по грудь доходил, и приходилось ходить и сидеть скорчившись. Печь горела плохо, вяло, без оживления, и в избушке ничуть не теплело. А внизу по-прежнему бушевало море.
– С этой печкой три охапки дров надо спалить, чтоб тепло стало, – говорит Коля.
– Ну что ж, и три охапки спалим, – говорю и еще дрова подкладываю. – Зато как спать-то будем!
Печь все-таки стала нагреваться, дрова разгорелись, дым полегчал, а мы чай пить сели. Сидим, пьем, говорим о разных разностях, море слушаем, как оно в берег бьет. Оно внизу гремит, а нам тепло, лампочка керосиновая маленькая горит, на столе кружки с чаем, сахар да хлеб – хорошо!
Заснули мы часов в девять, а в два часа ночи я проснулся от какого-то странного ощущения. Сначала я не мог понять, что меня так поразило и почему я проснулся. А потом слышу вдруг – тихо кругом! Ни звука нигде, только внизу волна по гальке: буль-буль! скрип-скрип!
В избе темно и тепло, сильно пахнет хлебом, окошки чуть светлеют на две стороны. И Коля тихо дышит, посапывает. Потом и он проснулся вдруг и сел.
– О! – говорит. – Как тихо! Сколько дней гремело, а тут тихо…
– Может, – говорю, – чаю попьем?
– Давай! – говорит Коля. – И свету не станем зажигать.
– Ладно, – говорю. – На окошки глядеть будем.
Пошел я к печке, заслонку отодвинул – в печке у нас чайник стоял, – пахнуло на меня сухим теплом. Вытащил я чайник, а он горячий.
Сели мы с Колей на лавку, пьем чай, смотрим на окошки, молчим… А снаружи все: скрип-скрип! буль-буль!
– Слышишь, – спрашиваю тихо, – как волна по гальке скрипит?
Опять помолчали, и тут Коля вдруг кружку на стол поставил и говорит шепотом:
– Ой! Это и не волна вовсе… Это кто-то ходит снаружи!
Прислушался я – верно, ходит кто-то, и по звуку похоже на волну: скрип-скрип!
– Человек? – спрашивает Коля.
– Откуда тут человек!
– Так кто же? – и даже дышать перестал. Выглянул я в окошко, потихоньку так, – по лавке подвинулся и выглянул. И Коля ко мне прижался, щека к щеке, тоже в окошко смотрит, и оба еле дышим, обоих дрожь начинает пробирать.
Только мы выглянули, сразу увидели море. Не было оно темным, как обычно ночью, а туманно-светлым. Это наверху северное сияние опять горело, – за облаками сияния не было видно, но свет его все-таки освещал море. И на горизонте, как иголкой проколоты, два огонька горят, зеленый и белый.
– Пароход! – дышит Коля.
– Лесовоз, наверное, – шепчу.
– Или траулер, – догадывается Коля.
– Норвежская? – предполагает Коля.
– Или аргентинская, – думаю я.
– Ой! – дышит Коля. – Гляди! Вон встает… – И как дыхнет от страха, так сразу все стекло запотело. Протер я тихо стекло, гляжу – большое темное пятно рядом с избушкой. То двинется, то остановится. И когда двинется, то еле слышно: скрип-скрип…
Отодвинулись мы от окошка, как обожглись, сидим в темноте и что делать, не знаем. Слышим, медведь к двери подошел. Подошел, стоит, молчит, посапывает – нюхает, наверное. Потом лапой корябнул по двери, но тихо, осторожно. Постоял, подумал, подошел к окошку и сразу его затемнил. От первого окошка отошел, подошел к другому и то затемнил.
Медведь услыхал движение, заворчал и сразу освободил окошко, исчез. Но от избушки не ушел, а все ходит около и все поскрипывает.
– Чего это он? – спрашивает Коля.
– Хлеб, – говорю, – хлебом из избушки вкусно пахнет, вот он и ходит…
– А давай ему хлеба дадим! – предлагает Коля.
– Как? – спрашиваю. – Как же ты ему дашь?
– А вы окошко откроете, а я кину ему буханку. Подумал я: почему бы и не дать? Хлеба не жалко, море успокоилось, мотодоры завтра поедут по тоням, привезут и хлеба, и всего…
Взял Коля буханку, а медведь услыхал, как я с окном вожусь, заворчал на всякий случай и в сторону подался. Стукнул я рамой, и выбросил Коля буханку. Медведь подкрался, хрюкнул, схватил и бегом прочь.
Минут через пять вернулся и уже прямо к окошку подошел, стоит и поскуливает, ждет.
– Ой-ой! – говорит Коля. – Какой умный! Давай еще кинем!
– Кидать так кидать! – говорю.
И еще кинули. Медведь даже на лету поймал и прочь. Но тут мы все-таки устали, и сморило нас в сон. Может, медведь снова приходил, но мы не слыхали, спали крепко.