Композиция и композиционный прием «рассказ в рассказе»
Ни одно достойное литературное произведение не может обойтись без композиции. Ведь она представляет собой построение художественного творения, расположение его отдельных частей в системе и последовательности, которая подчеркнет главную идею произведения и поможет ее раскрыть наиболее максимальным образом.
Содержимое разработки
Главная Wiki-учебник Литература 7 класс Композиция: композиционные приемы и понятие об авторском стиле
Композиция и композиционный прием «рассказ в рассказе»
Ни одно достойное литературное произведение не может обойтись без композиции. Ведь она представляет собой построение художественного творения, расположение его отдельных частей в системе и последовательности, которая подчеркнет главную идею произведения и поможет ее раскрыть наиболее максимальным образом.
Понятие композиции в литературном произведении
Но о композиции нельзя сказать, что это только определение последовательности сцен романа или глав. Это понятие включает в себя целостную систему определенных методов, способов и форм художественного изображения. А то, из чего будет состоять эта система, зависит от содержания художественного произведения.
Композиция способствует выражению идейного смысла и убедительному сочетанию определенных мотивов и тем в одном произведении. Писатель тщательно продумывает композицию своего творения, так как она поможет ему ярче раскрыть те стороны повествования, которые и должны привлечь внимание читателя.
Единство мысли писателя и формирует структуру композиции. Элементами композиции называют пейзаж, описание, портрет, сюжет, фабулу, повествование, диалог, систему образов, монологи персонажей, авторские характеристики и отступления, вставные рассказы.
Способы изображение зависят от жанра произведения. Важно отметить, что каждое произведение имеет свою собственную композицию и систему. Но есть и композиционные каноны, которые присущи определенным традиционным жанрам. Строение классической драмы или трагедии пятиактное, а для сказки характерен счастливый конец и трехкратные повторы.
Интересен и оригинален такой элемент композиции, как «рассказ в рассказе». Это означает, что непосредственно в литературном произведении представлен еще один рассказ, с помощью которого автор пытается донести общую фабулу своего творения.
Надо сказать, что композиция этого произведения также необычна. Она представляет собой рассказ в рассказе. Старый цыган Макар Чудра выступает здесь в роли «второго» рассказчика. Сначала он просто говорит о жизни, размышляет, делится своими впечатлениями с «первым» рассказчиком – автором. Затем Чудра рассказывает ему легенду о Радде и Лойко.
Композиционные приёмы



1. Приём рамки (или «рассказ в рассказе»).
4. Приём предварения.
5. Приём отступления.
6. Приём ретроспекции.
Приём рамки(или «рассказ в рассказе») весьма распространён в сюжетосложении. Основная сюжетная линия заключена как бы в «Рамку» воспоминания, спора, развлечения анекдотами, урока и т.д. Герой при таком композиционном приёме рассказывает историю, происходившую с ним в прошлом или, напротив, фантазирует, прогнозируя будущее.В хронологическом отношении такой сюжет непоследователен. Время самого рассказа не соответствует времени, о котором повествует рассказчик.
Приём очень распространён: Л.Н. Толстой «После бала», А.Н. Некрасов «Железная дорога», А.П. Чехов Трилогия «О любви», Боккаччо «Декамерон» и т.д.
Приём кольца. Напоминает приём рамки, но существенно отличается от него. При этом приёме последний эпизод композиционно повторяет первый. Герои оказываются в тех же обстоятельствах, в том же окружении, их одолевают схожие проблемы. Они как бы ходят «по кольцу». Но нельзя упускать из вида, что смысловая нагрузка последнего эпизода в силу развития сюжета уже иная, нежели у первого. Повторяются внешние признаки, внутренне многое меняется. Приёмом кольца пользуются сюжеты-сны (Кальдерон «Жизнь есть сон»), сюжеты-побеги (Лермонтов «Мцыри»). Этим приёмом пользовался Вампилов (пьесы «прощание в июне», «Старший сын», «Дом окнами в поле»).
Приём вставки элементарен. По ходу развития сюжета «вставляются», на первый взгляд, не связанные с основной коллизией сказки, мифы, истории, басни и т.д. Самый известный приём вставки встречаем в гоголевских «Мёртвых душах»: это «Повесть о капитане Копейкине». Вставками широко пользуется в своих романах Чингиз Айтматов. Вставку можно изъять из текста, это мало повлияет на фабулу (цепь событий), но принципиально обеднит сюжет в целом.
Приём отступления (лирического, публицистического, научного, философского) хорошо известен по «Евгению Онегину» А.С. Пушкина и «Дон Жуану» Дж. Байрона, «Молодой гвардии» А. Фадеева и «Пушкинскому дому» А. Битова. Всякого рода отступления позволяют автору полнее высказать самого себя, прокомментировать сюжет с различных точек зрения, просто «поболтать» с читателем. Отступления чаще всего обогащают сюжет, придавая ему характер энциклопедичности.
Приём ретроспекции – приём хронометрического возврата, поворота сюжета к прошлому. По ходу действия герой может ретроспективно вспоминать что-либо. Ретроспекция характерна для детективных сюжетов. Приём этот известен с времён фольклора: он часто встречается в русских былинах, сказках. В современной литературе к нему не раз прибегал Юрий Бондарев («Берег», «Выбор», «Игра»).
Литературная критика
Феномен рассказа в рассказе, или Незавершенное высказывание
Художественная форма «истории внутри истории» обычно ассоциируется
с циклом арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Но эта форма присутствует
во всех культурных традициях, поэтому неудивительно, что она мгновенно
перекочевала и в авторскую прозу. Причем речь здесь идет не только
о произведениях, в сюжетах которых рассказчики то и дело передают
друг другу эстафету (от «Гаргантюа и Пантагрюэля» Франсуа Рабле
и «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова до «Рукописи, найденной
в Сарагосе» Яна Потоцкого и «Арабского кошмара» Роберта Ирвина),
а вообще о способе, предполагающем отклонение от основной темы,
обусловленное обнаружением внутри придаточной темы еще одной придаточной
и так далее. И любопытен здесь не столько сам художественный прием,
ставящий целью держать читателя в напряжении (столь вышколенный
и опошленный детективно-сериальной индустрией), а то, что сама
форма «истории внутри истории» не просто оказалась невероятно
притягательной и пережила многие столетия, но фактически легла
в основу человеческой экзистенции.
И вот на этом этапе можно вплотную подойти к теме, которая оказывается
тесно связана с рассматриваемой формой.
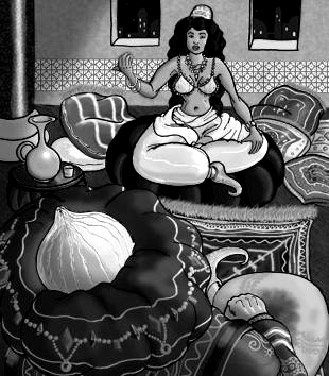 |
Речь идет о деятельности
или процессе, чье развитие оказывается парадоксальным образом
обусловлено отклонением и отступлением от его «генеральной» линии.
И здесь открывается еще одна грань этих рассказов в рассказах:
обнаружение их тотальной незавершенности, их подчинения закону
неполноты. Весьма любопытным оказывается этап, на котором
эта форма перепроецируется на саму художественную речь, поднимаясь
одновременно на ступень философии. Определяя условную точку отсчета
для этого литературного вектора, можно обратить внимание на произведения
Роберта Вальзера, Франца Кафки, Сэмюэля Беккета. В дальнейшем
же этот прием незавершенного высказывания становится особенностью
самых разных по манере письма авторов – от Уильяма Берроуза до
Саши Соколова.
Так, в романе Вальзера «Разбойник» на каждой странице появляются
несколько сюжетных тем, композиционных линий, мало связанных друг
с другом мыслей, которые потенциально могут быть развиты в дальнейшем
повествовании, но далеко не все развиваются, и сам принцип последующего
обращения к той или иной теме не поддается никакой логике. Рассказчик
как будто бросает в воздух целый сонм тезисов и с ловкостью жонглера
ожидает, какой из них первым упадёт обратно в его руки, и тогда
уже уделяет ему внимание. Но ловкость эта вполне может обернуться
нежеланием жонглера-рассказчика ловить тезис, и тогда он падает
к его ногам, терпеливо (и порой небезосновательно) надеясь, что
на него все-таки обратят внимание (совсем не так у Жана-Поля Сартра
в «Отсрочке» или у Олдоса Хаксли в «Контрапункте», где каждый
переход выверен и не предоставляется случаю). Но, несмотря на
усложненность композиции, фактически, мы имеем дело всё с той
же формой истории внутри истории – только рассказчик здесь ещё
реже утруждает себя формальной обязанностью завершить одно повествование,
прежде чем перейти к следующему.
Весьма любопытны в этом контексте и особенности художественной
речи Кафки, которая зачастую строится следующим образом: дается
некое утверждение, от которого сразу же ответвляются еще несколько
утверждений, на начальном этапе являющихся чем-то вроде уточнений
или трактовок первого (едва ли здесь уместно слово основного)
тезиса. В дальнейшем эти трактовки начинают претендовать на самостоятельность,
и действительно становятся полноценными утверждениями, а не просто
толкованиями, и потому по примеру первого тезиса порождают собственные
комментарии и оговорки, и так – до бесконечности. Особенно это
заметно в романах Кафки, но огромное количество его новелл также
одержимы подобной манией уточнения. Фактически, ту же самую функцию
уточнения несут то и дело вкрапляемые в текст рассказы в рассказах
(лучший пример этой кафкианской «Тысячи и одной ночи» – это, пожалуй,
«Описание одной борьбы»).
Но все эти уточнения и истории внутри историй в глобальном смысле
воплощают проявление недоверия к готовым формам, они являются
апофеозом незавершенности. Едва ли эти «комментарии» подобны разъяснениям,
наоборот, скорее каждое из них лишь вносит сумбур, усугубляет
путаницу, всё дальше уводит от первоначальной проблемы, подвергая
ее забвению, ставя под вопрос даже возможность поиска ее решения.
В итоге перед нами как лингвистический частокол вырастает цепочка
утверждений, каждое из которых указывает на соседнее, тем самым
ставя под сомнение истинность всех элементов языковой цепи (точь-в-точь
как распоряжения чиновников в сюжетных перипетиях романов Кафки).
Это речь, то и дело разоблачающая саму себя, замыкающаяся в себе
и исчерпывающая себя до пределов, но и обретающая себя через собственное
отрицание (до Кафки нечто подобное практиковал, пожалуй, только
Достоевский, и лучшей аналогией здесь станут «Записки из подполья»).
Это речь, увязающая в самой себе, и, в конце концов, обрывающаяся,
но при этом – безо всякой надежды на невозможность возобновиться.
Этот обрыв, эта незаконченность всех романов Кафки более чем условны
и скорее символизируют бесконечность, чем являются обрывом. Эта
замкнутость никогда не замкнута до конца. Собственно, категория
процесса – категория непрерывности и незавершенности
– возможно, является основной на пути приближения к пониманию
Кафки. «Der Prozess» – это вечное настоящее,
нечто происходящее, развивающееся, продолжающееся, подстегиваемое
своим собственным поступательным движением, неоконченное и нескончаемое,
проклятое и благословенное одновременно.
Шахрияр не представляет, о чем будет следующая сказка Шахерезады,
но известно ли это ей самой? Ведь каждая из этих историй становится
совершенной именно благодаря этой незавершенности, а финал внутренней
истории отнюдь не является финалом истории обрамляющей, и оказывается
псевдофиналом, еще одним витком соприкосновения с бесконечным,
мучительного продвижения в пустоту. Фактически, именно их текстуальное
нерождение обуславливает возможность их воплощения на более высоком,
метафизическом уровне. Или неужели найдется такой, кто облегченно
вздохнет, прочитав в конце обрамляющей истории нечто каноническое
вроде «тут и сказке конец»?! Наоборот, такая формулировка лишь
подчеркнет условность и зыбкость этого финала. Не говоря уже о
том, что история «Тысячи и одной ночи» начинается с указания на
то, что это повествование о книге, содержащей
истории Шахерезады. То есть уже в самом начале повествования читатель
получает указание на нечто, находящееся за пределами этого повествования,
и снова на его собственную жизнь проецируется метафора «истории
внутри истории», в которой даже ребенок его ребенка будет лишь
следующим эпизодом.
Попытка найти выход из этого лабиринта, пожалуй, так же безнадежна,
как трактовка бесконечности – человек в этом случае рано или поздно
останавливается, найдя «ответ» в религии, науке, идеологии (самым
бестактным образом хочется оставить за собой право не включать
в этот «синонимический» ряд искусство) – иными словами – в бегстве
от этой бесконечности, от вечной трагедии незавершенности. Возможно,
сама эта форма «рассказа в рассказе» многократно перерождается
именно как поиск объяснения незавершенности человеческой жизни.
Незаконченность здесь выступает как неразрешимая тайна, притягательная
и мучительная одновременно.
1. Барт Д. «Рассказы в рассказах в рассказах». // Locus
solus. Антология литературного авангарда ХХ века. СПб., 2006,
с. 406.
2. Бланшо М. Тот, кто не сопутствовал мне. // Рассказ?
М., 2003, с. 287.
3. Бланшо М. Ожидание, забвение. // Рассказ? М., 2003,
с. 524.
4. Кафка Ф. Дневниковая запись от 08.12.1911 // Собрание
сочинений в 4-х томах. СПб., 1999, Т. 4, с. 144.
Рассказ в рассказе характерный литературный прием Чехова
В 1898 г. в печати появились три чеховских рассказа: “Человек в футляре”, “Крыжовник” и “О любви”, которые воспринимаются как “маленькая трилогия”, ибо они объединены не только общим авторским замыслом, но и сходной композицией (“рассказ в рассказе”). Уже само название первого произведения из этого цикла знаменательно. Оно построено на явном противопоставлении, антитезе: человек и футляр.
Беликов прячется от мира, максимально ограничивая свое пространство, предпочитая широкой и вольной жизни тесный и темный футляр,
Земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа”. Так художественный образ пространства становится одним из главных способов выражения авторской концепции. Узкому, замкнутому пространству (“футляр”, три аршина, усадьба) противопоставляется, невиданно широкий простор – “весь земной шар”, необходимый свободному человеку.
Композиционное построение каждого рассказа позволило Чехову выдвинуть в качестве объекта художественного исследования и самих повествователей. Их реакция на жизненные ситуации становится одним из важных средств их объективной характеристики. Иван Иванович, например, рассказывает в “Крыжовнике” не только о судьбе брата, но и о себе, о той перемене, которая произошла в нем под влиянием увиденного в усадьбе новоявленного помещика.
Духовное прозрение помогает ему понять гибельность всеобщей тишины и довольства. Должен быть, восклицает он, “человек с молоточком”, который возмущал бы сытое спокойствие счастливых людей. Однако его спутники Буркин и Алехин не принимают его выводов и тревоги, не сочувствуют им.
Заключает “маленькую трилогию” рассказ “О любви”, в котором продолжается исследование проблемы “футлярности”. Еще в “Крыжовнике” Иван Иванович заметил: “…эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм”.
Слова эти имеют прямое отношение к Алехину, который сам рассказывает о себе. Жизнь, которую Алехин избрал для себя,- тот же футляр. Он, похожий более на профессора или художника, чем на помещика, почему-то считает необходимым жить в тесных маленьких комнатах (узкое пространство!), хотя в его распоряжении целый дом.
Даже мыться ему некогда, и говорить он привык только о крупе, сене и дегте…
Алехин боится перемен. Даже большая, настоящая любовь не в состоянии заставить его сломать установившиеся нормы, пойти на разрыв со сложившимися стереотипами. Так постепенно он сам обедняет, опустошает свою жизнь, становясь подобным – не в деталях, а по сути – на героев “Человека в футляре”, “Крыжовника” и “Ионыча”.
Расположение рассказов в “трилогии” было тщательно продумано Чеховым. Если в первом из них “футлярность” была показана и разоблачена прямо и наглядно, то в последнем речь идет о скрытых и, быть может, еще более опасных формах бегства человека от действительности, жизни, любви, счастья…
Related posts:
Рассказ в рассказе характерный литературный прием Чехова
В 1898 г. в печати появились три чеховских рассказа: «Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви», которые воспринимаются как «маленькая трилогия», ибо они объединены не только общим авторским замыслом, но и сходной композицией («рассказ в рассказе»). Уже само название первого произведения из этого цикла знаменательно. Оно построено на явном противопоставлении, антитезе: человек и футляр. Беликов прячется от мира, максимально ограничивая свое пространство, предпочитая широкой и вольной жизни тесный и темный футляр, который становится символом обывательской косности, равнодушия, неподвижности.
Брат Ивана Ивановича, «добрьщ, кроткий человек», осуществив мечту всей своей жизни и купив усадьбу, становится похожим на свинью («Крыжовник»). Его история дает основание рассказчику вступить в полемику с идеей одного из народных рассказов Л. Н. Толстого: «Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку… Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь
земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа». Так художественный образ пространства становится одним из главных способов выражения авторской концепции. Узкому, замкнутому пространству («футляр», три аршина, усадьба) противопоставляется, невиданно широкий простор — «весь земной шар», необходимый свободному человеку.
Композиционное построение каждого рассказа позволило Чехову выдвинуть в качестве объекта художественного исследования и самих повествователей. Их реакция на жизненные ситуации становится одним из важных средств их объективной характеристики. Иван Иванович, например, рассказывает в «Крыжовнике» не только о судьбе брата, но и о себе, о той перемене, которая произошла в нем под влиянием увиденного в усадьбе новоявленного помещика. Духовное прозрение помогает ему понять гибельность всеобщей тишины и довольства. Должен быть, восклицает он, «человек с молоточком», который возмущал бы сытое спокойствие счастливых людей. Однако его спутники Буркин и Алехин не принимают его выводов и тревоги, не сочувствуют им.
Заключает «маленькую трилогию» рассказ «О любви», в котором продолжается исследование проблемы «футлярности». Еще в «Крыжовнике» Иван Иванович заметил: «…эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм». Слова эти имеют прямое отношение к Алехину, который сам рассказывает о себе. Жизнь, которую Алехин избрал для себя,— тот же футляр. Он, похожий более на профессора или художника, чем на помещика, почему-то считает необходимым жить в тесных маленьких комнатах (узкое пространство!), хотя в его распоряжении целый дом. Даже мыться ему некогда, и говорить он привык только о крупе, сене и дегте…
Алехин боится перемен. Даже большая, настоящая любовь не в состоянии заставить его сломать установившиеся нормы, пойти на разрыв со сложившимися стереотипами. Так постепенно он сам обедняет, опустошает свою жизнь, становясь подобным — не в деталях, а по сути — на героев «Человека в футляре», «Крыжовника» и «Ионыча». Расположение рассказов в «трилогии» было тщательно продумано Чеховым. Если в первом из них «футлярность» была показана и разоблачена прямо и наглядно, то в последнем речь идет о скрытых и, быть может, еще более опасных формах бегства человека от действительности, жизни, любви, счастья…













