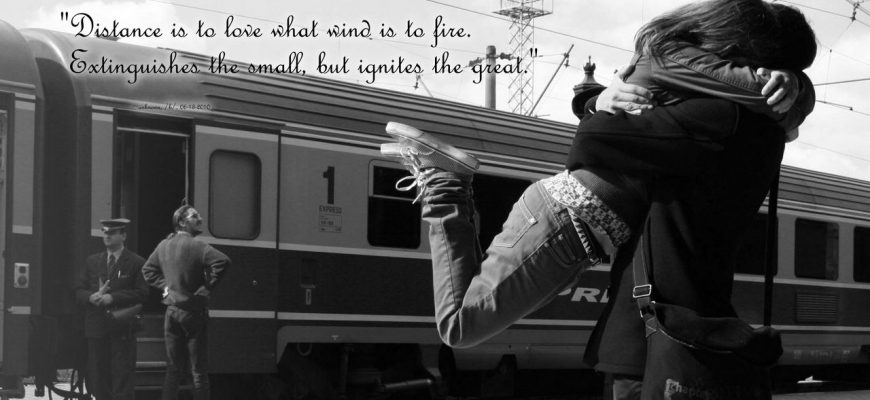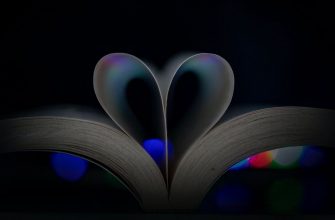Анализ произведения Запах хлеба Казакова
Жанровая направленность произведения представляет собой лирическую прозу, основной тематикой которой являются авторские размышления о проявлении любви к самому близкому человеку в лице матери.
Главной героиней рассказа является Дуся, представленная в образе обычной русской женщины, проживающей в столице совместно со своим супругом.
Сюжетная линия рассказа разворачивается после Нового года, когда в квартиру Дуси приносят телеграмму, уведомляющую женщину о смерти ее матери. Неожиданная новость становится шоком для женщины, однако она принимает решение не посещать родную деревню и даже не может заплакать, несмотря на то, что не видела мать более пятнадцати лет.
Через несколько месяцев Дусе приходит письмо от сына сестры Миши с приглашением посетить родной дом, в котором остались вещи умершей матери. И женщина принимает решение об отъезде.
Доехав до родного села, Дуся с удивлением обнаруживает изменения, произошедшие с деревней, которая стала гораздо больше, нежели ранее. Встреча с сестрой проходит у женщины достаточно тепло, после чего Дуся направляется к родному дому, в котором прошло все ее детство.
Дом оказывается заколоченным, но войдя во внутрь Дуся неожиданно ощущает аромат свежеиспеченного хлеба, который готовила ее мать. В памяти начинают всплывать воспоминания о счастливых моментах прошлой жизни. Побыв в доме, Дуся принимает решение о продаже избы, а затем направляется на кладбище с целью навестить могилу матери в сопровождении племянника.
Подойдя к могиле, на глазах женщины выступают горькие слезы, и она не в силах сдержать подступающий к горлу крик души. Миша пугается истерики женщины и убегает домой за матерью, которая, прибежав на кладбищенский погост, обнаруживает Дусю лежащей на земле и рыдающей по безвозвратно ушедшей матери.
На следующее утро Дуся покидает родную деревню, возвращаясь в Москву, а в ее отчем доме начинается жизнь для новых людей.
Смысловая нагрузка произведения заключается в необходимости слушать зов собственного сердца, поскольку оно хранит светлые и добрые человеческие воспоминания, особенно о самом дорогом человеке на земле, о матери.
История создания:
Рассказ был написан Козаковым в1961 году.
Сюжет
Главную героиню произведения зовут Дуся. Она живёт со своим мужем в Столице. Действие рассказа начинается после Нового года первого января, в это время на адрес супругов приходит телеграмма, сообщающая о смерти матери Дуси – семидесятилетней старухи, жившей в деревне, откуда женщина родом. Узнав от мужа эту новость Дуся некоторое время думает об этом, но ехать не решается, так как все вещи уже могли растащить родственники. Женщина не видела свою мать уже пятнадцать лет, поэтому узнав о её смерти, Дуся даже не может заплакать, ей просто становится грустно.
В мае к Дуси снова приходит телеграмма, только уже от своего племянника Миши, в котором он пишет, что дом и вещи её матери остались целы, а также предлагает приехать. Наконец, она принимает решение отправиться в деревню.
По приезду Дуся обнаружила, что её никто не встретил и ей приходится идти пешком, но благодаря этому она смогла по дороге рассмотреть деревню. Она была очень удивлена тем изменениям, которые сделали неузнаваемой её деревню. Женщине они совсем не понравились.
В доме сестры Дусю встретили тепло и радушно, она, в свою очередь, привезла всем гостинцы. От своей сестры женщина узнала, что некоторые вещи из дома матери забрала родня. Сестра же забрала всю скотину. Сначала Дуся жалела, что не приехала сразу, но потом успокоилась и забыла об этом.
Подойдя к дому матери, Дуся увидела, что окна были забиты досками, а двери закрыты на замки. Женщины с трудом открыли их. Как только Дуся зашла, сразу услышала знакомый ей с детства запах хлеба. Она словно оказалась в давно приснившемся и уже забытом сне. Через некоторое время, продав пожитки и дом матери, Дуся решается навестить ее могилу, сопровождать её отправился Миша. По дороге она задаёт ему вопросы про изменения в деревне и его жизнь. Как только они подошли к могиле матери Дуси, у женщины при её виде началась истерика и мальчик, испугавшись, побежал за помощью в деревню. Через час Дусю нашли лежащей на могиле и плачущей. Её отвели домой к сестре и уложили спать.
На утро Дуся уже спокойно пила с сестрой чай, была весела и спокойна, и рассказывала о своём доме в Москве. Немного позже она уехала. Через две недели в дом её матери заселились новые жильцы.
Тематикой произведения являются размышления автора о проявлении любви к самому близкому человеку – матери. Примером главной героини автор напоминает, что человек всегда должен слушать своё сердце, так как оно хранит в себе самые лучшие и светлые воспоминания о наиболее важных людях в нашей жизни.
Главные герои
Дуся является единственной главной героиней рассказа в образе простой русской женщины, проживающей вместе со своим супругом в столице. Помимо неё в произведении упоминаются её муж, сестра, проживающая в деревне с сыном Мишей, который приходится главной героине племянником.
Композиция
Переплетение собственного зова сердца и ума, помогают главной героине принять правильное решение, поехать в родное место, где на нее нахлынули воспоминания, при которых она не смогла сдержать слез, не смотря что прошло много лет.
Также читают:
Картинка к сочинению Анализ произведения Запах хлеба Казакова
Популярные сегодня темы
Весь мир состоит из звуков. Музыка окружает человека каждое мгновение жизни. Колыбельная, которую поёт мама, детские песенки, звучащие в мультфильмах детства, старые народные и застольные композиции, которые любила иногда петь бабушка.
Все математики – неряшливые, слабохарактерные и гениальные люди. Но грек Харламий Диогенович таким не был. Главным его умением было поддержание тишины в ходе учебного процесса.
Каждая часть речи в языке важна и выполняет свою работу вместе с другими, самостоятельными и служебными, чтобы люди могли выразить разнообразные мысли и чувства.
Матвей Кузьмин, восьмидесятилетний молчаливый старик, жил в одинокой ветхой избушке на лесной опушке, с маленьким внуком Васей и собакой Шариком. Он хорошо знал лесную местность и часто охотился
Рассказ запах хлеба казаков краткое содержание
Телеграмму получили первого января. Дуся была на кухне, открывать пошел ее муж. С похмелья, в нижней рубахе, он неудержимо зевал, расписываясь и соображая, от кого бы это могло быть еще поздравление. Так, зевая, он и прочел эту короткую скорбную телеграмму о смерти матери Дуси — семидесятилетней старухи в далекой деревне.
«Вот не вовремя!» — с испугом подумал он и позвал жену. Дуся не заплакала, только побледнела слегка, пошла в комнату, поправила скатерть и села. Муж мутно поглядел на недопитые бутылки на столе, налил себе и выпил. Потом подумал, налил Дусе.
— Выпей! — сказал он. — Прямо черт ее знает, до чего башка трещит. Ох–хо–хо… Все там будем. Ты как — поедешь?
Дуся молчала, водя рукой по скатерти, потом выпила, пошла к постели, как слепая, и легла.
— Не знаю, — сказала она минуту спустя.
Муж подошел к Дусе, поглядел на ее круглое тело.
— Ну ладно… Что делать? Что ж будешь делать! — больше он не знал, что сказать, вернулся к столу и опять налил себе. — Царство небесное, все там будем!
Целый день Дуся вяло ходила по квартире. Голова у нее болела, и в гости она не пошла. Она хотела поплакать, но плакать как-то не было охоты, было просто грустно. Мать свою Дуся не видела лет пятнадцать, из деревни уехала и того больше и никогда почти не вспоминала ничего из своей прошлой жизни. А если и вспоминалось, то больше из раннего детства или как провожали ее из клуба домой, когда была девушкой.
Дуся стала перебирать старые карточки и опять не могла заплакать: на всех карточках у матери были чужое напряженное лицо, выпученные глаза и опущенные по швам тяжелые темные руки.
Ночью, лежа в постели, Дуся долго говорила с мужем и сказала под конец:
— Не поеду! Куда ехать? Там теперь холодина… Да и барахло, какое есть, родня растащила уж небось. Там у нас родни хватает. Нет, не поеду!
Прошла зима, и Дуся вовсе позабыла о матери. Муж ее работал хорошо, жили они в свое удовольствие, и Дуся стала еще круглее и красивее.
Но в начале мая Дуся получила письмо от двоюродного племянника Миши. Письмо было написано под диктовку на листке в косую линейку. Миша передавал приветы от многочисленной родни и писал, что дом и вещи бабушкины целы и чтобы Дуся обязательно приехала.
— Поезжай! — сказал муж. — Валяй! Особо не трясись, продай поскорее чего там есть. А то другие попользуются или колхозу все отойдет.
И Дуся поехала. Давно она не ездила, а ехать было порядочно. И она успела как следует насладиться дорогой, со многими поговорила и познакомилась.
Она послала телеграмму, что выезжает, но ее почему-то никто не встретил. Пришлось идти пешком, но и идти было Дусе в удовольствие. Дорога была плотна, накатана, а по сторонам расстилались родные смоленские поля с голубыми перелесками на горизонте.
В свою деревню Дуся пришла часа через три, остановилась на новом мосту через речку и посмотрела. Деревня сильно пообстроилась, расползлась вширь белыми фермами, так что и не узнать было. И Дусе эти перемены как-то не понравились.
Она шла по улице, остро вглядываясь во всех встречных, стараясь угадать, кто это. Но почти никого не узнавала, зато ее многие признавали, останавливали и удивлялись, как она возмужала.
Сестра обрадовалась Дусе, всплакнула и побежала ставить самовар. Дуся стала доставать из сумки гостинцы. Сестра посмотрела на гостинцы, снова заплакала и обняла Дусю. А Миша сидел на лавке и удивлялся, почему они плачут.
Сестры сели пить чай, и Дуся узнала, что многое из вещей разобрали родные. Скотину — поросенка, трех ярочек, козу и кур — взяла себе сестра. Дуся сперва пожалела втайне, но потом забыла, тем более что многое осталось, а главное, остался дом. Напившись чаю и наговорившись, сестры пошли смотреть дом.
Усадьба была распахана, и Дуся удивилась, но сестра сказала, что распахали соседи, чтобы не пропадала земля. А дом показался Дусе совсем не таким большим, каким она его помнила.
Окна были забиты досками, на дверях висел замок. Сестра долго отмыкала его, потом пробовала Дуся, потом опять сестра, и обе успели замучиться, пока открыли.
В доме было темно, свет еле пробивался сквозь доски. Дом отсырел и имел нежилой вид, но пахло хлебом, родным с детства запахом, и у Дуси забилось сердце. Она ходила по горнице, осматривалась, привыкая к сумеркам: потолок был низок, темно–коричнев. Фотографии еще висели на стенах, но икон, кроме одной, нестоящей, уже не было. Не было и вышивок на печи и на сундуках.
Оставшись одна, Дуся открыла сундук — запахло матерью. В сундуке лежали старушечьи темные юбки, сарафаны, вытертый тулупчик. Дуся вытащила все это, посмотрела, потом еще раз обошла дом, заглянула на пустой двор, и ей показалось, что когда-то давно ей все это приснилось и теперь она вернулась в свой сон.
Услышав о распродаже, к Дусе стали приходить соседки. Они тщательно рассматривали, щупали каждую вещь, но Дуся просила дешево, и вещи раскупали быстро.
Главное был дом! Дуся справилась о ценах на дома и удивилась и обрадовалась, как на них поднялась цена. На дом нашлось сразу трое покупателей — двое из этой же и один из соседней деревни. Но Дуся не сразу продала, она все беспокоилась, что от матери остались деньги. Она искала их дня три: выстукивала стены, прощупывала матрацы, лазила в подполье и на чердак, но так ничего и не нашла.
Сговорившись с покупателями о цене, Дуся поехала в райцентр, оформила продажу дома у нотариуса и положила деньги на сберкнижку. Вернувшись, она привезла сестре еще гостинцев и стала собираться в Москву. Вечером сестра ушла на ферму, а Дуся собралась навестить могилу матери. Провожать ее пошел Миша.
Денек было замглился во второй половине, посоловел, но к вечеру тучи разошлись, и только на горизонте, в той стороне, куда шли Дуся и Миша, висела еще гряда пепельно–розовых облаков. Она была так далека и неясна, что казалось, стояла позади солнца.
Река километрах в двух от деревни делала крутую петлю, и в этой петле, на правом высоком берегу, как на полуострове, был погост. Когда-то он был окружен кирпичной стеной, и въезжали через высокие арочные ворота. Но после войны разбитую стену разобрали на постройки, оставив почему-то одни ворота, и тропинки на погост бежали со всех сторон.
Дорогой Дуся расспрашивала Мишу о школе, о трудоднях, о председателе, об урожаях и была ровна и спокойна. Но вот показался старый погост, красно освещенный низким солнцем. По краям его, там, где когда-то была ограда, где росли кусты шиповника, были особенно старые могилы, которые давно потеряли вид могил. А рядом с ними виднелись в кустах свежевыкрашенные ограды с невысокими деревянными обелисками — братские могилы…
Дуся с Мишей миновали ворота, свернули направо, налево — среди распускающихся берез, среди остро пахнущих кустов, и Дуся все бледнела, и рот у нее приоткрывался.
— Вон бабушкина… — сказал Миша, и Дуся увидела осевший холмик, покрытый редкой острой травкой. Сквозь травку виден был суглинок. Небольшой сизый крест, не подправленный с зимы, стоял уже косо.
— У–у-у, — низко выла Дуся, упав лицом на могилу, глубоко впустив пальцы во влажную землю. — Матушка моя бесценная… Матушка моя родная, ненаглядная… У–у-у… Ах, и не свидимся же мы с тобой на этом свете никогда, никогда! Как же я без тебя жить-то буду, кто меня приласкает, кто меня успокоит? Матушка, матушка, да что же это ты наделала?
— Тетя Дуся… тетя Дуся, — хныкал от страха Миша и дергал ее за рукав. А когда Дуся, захрипев, стала выгибаться, биться головой о могилу, Миша припустил в деревню.
Воспоминания из детства.9ч.Запах горячего хлеба.
Популярные сегодня пересказы
Отзывы на книги автора Юрий Казаков
Удивительной красоты и ужаса книга. Я даже не ожидала такого количества точечных восторгов и уколов в чувствительные места. То, что помним мы о собственном детстве, как всё это зыбко и неверно. Разве не овеяны эти воспоминания розовой дымкой, не смягчены ли они милосердной памятью?
Жизнь к концу лишается хищности, обретает некую нравственную высоту, старость способна облагородить даже и подлеца, и мелкого хищника. Тогда как в детстве все обнажено, ничем не прикрыто, человек еще не научился ни жалеть, ни защищаться. Детство – хищническая площадка молодняка, страшный мир, лишенный снисхождения и, главное, свободы, потому что в детстве какая же свобода? Тотальная, рабская зависимость.
Это очень точное замечание, но сформулировать его способен только взрослый, чей век уже перешагнул рассвет и направляется к закату. Взрослому легко припоминать и облачать былые детские драмы в слова и формулы, уж он-то понял и теперь ему не страшно, не обидно, не одиноко. По крайней мере, уже не так, как это было когда-то. Не так всеобъемлюще и катастрофически, не так черно и глубоко. Взрослые беды и обиды накладываются на опыт, на мусорные, но чрезвычайно привлекательные мантры типа «Don’t Worry, Be Happy», и «Главное — захотеть», взрослый совсем забыл, как это — очень-очень хотеть, мечтать, фантазировать, изводить родителей намёками и истериками, но так и не получить, потому что жестокая се ля ви. Взрослый забыл, как страшна темнота перед сном, как боязно, когда родители задерживаются, как остро хочется походить на других, чтобы приняли и оценили, и чтобы только с тобой задушевно дружила та самая прекрасная Алина из последнего подъезда, и как позорно быть ребёнком-увальнем, который плохо прыгает в резиночки, и это слово «Стратила!» — оно даже хуже, чем «нам нужно расстаться», хуже даже пугливого расставания без слов, молчаливого и потому ужасно окончательного. А прочитаешь — и вспомнишь, заворочается внутренний ребёнок, призрачный, слабый, засучит ногами, запросит велосипед и куклу Барби, заплачет от неразделённой любви, про которую и думать стыдно, обидится на весь свет, что домой загнали рано, разноется. Вот тогда и попляшешь, читатель.
И все неприятности взрослые наши: Проверки и промахи, трепет невольный, Любовная дрожь и свидание даже – Все это не стоит той детской контрольной. Мы просто забыли. Но маленький школьник За нас расплатился, покуда не вырос, И в пальцах дрожал у него треугольник. Сегодня бы, взрослый, он это не вынес.
Сборник состоит из двух частей: рассказы о других и о себе. Вторая — что-то вроде воспоминаний о детстве, и эти рассказы понравились мне чуть меньше. Скажем, Макаревич долго и нудно рассказывал про быт, что ели, что пили, что носили, где гуляли, низводя драгоценные воспоминания до списков. Понятное дело, для него лично это важно — запомнить, запечатлеть в мелких подробностях, но я и поинтересней читала воспоминания такого рода. Та же «Ложится мгла на старые ступени» куда познавательней и ярче. Но и там есть жемчужины, возьми хоть Драгунского с его комментариями к «Денискиным рассказам», или Улицкую, или Водолазкина, Ольгу Трифонову, или даже Прилепина, который в рассказе «Лес» прекрасен, хоть и нелюбим мною в целом. Это было так, будто с тобой поделились чем-то драгоценным, хрупким, ты взял его ладонями и к груди прижал, а оно просочилось внутрь и там, в тебе, заискрилось. Такое ощущение. Коряво описываю, ну вот так.
Отличный сборник, приятно удивлена.
Краткое содержание: Теплый хлеб (Паустовский)
Вороной конь был ранен в ногу снарядом, когда кавалерия проходила через деревню Бережки. Командир оставил раненого коня в деревне, и коня взял к себе мельник Панкрат — «скорый на работу, сердитый старик», которого дети считали колдуном. Его мельница давно не работала.
Панкрат вылечил коня, конь остался при мельнице и помогал мельнику чинить плотину. Но Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Он стучал мордой в калитку, и ему что-то да выносили — свекольной ботвы, или черствого хлеба, или сладкую морковку. В деревне коня считали общим, и каждый старался его накормить.
В Бережках жил со своей бабкой Филька — мальчик молчаливый, недоверчивый, по прозвищу Ну Тебя. Любимым выражением Фильки было: «Да ну тебя!»
Зима в этот год стояла теплая, поэтому около мельницы вода не замерзала. Панкрат починил мельницу и собирался молоть хлеб, у многих жителей муки осталось на два-три дня.
Однажды раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Дома был только Филька, который жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью. Филька нехотя вышел за калитку, а конь потянулся к хлебу. Филька наотмашь ударил коня по губам. Конь отшатнулся, а Филька закинул хлеб в снег и закричал коню, чтобы тот копал его мордой из-под снега.
После этого случая в Бережках стали твориться удивительные дела.
«Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза». Началась настоящая снежная буря, и Филька едва нашел дверь в избу.
Метель стихла только к вечеру, а к ночи ударил сильный мороз.
Бабка Фильки плакала, сказала, что, наверное, замерзли колодцы и теперь людей ждет гибель — воды нет, муки тоже, а мельница работать теперь не сможет, потому что река замерзла. Филька тоже заплакал от страха. Бабка сказала, что такой мороз был лет сто назад, он «заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады.
Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал ее стороной всякий зверь — боялся пустыни». И мороз этот случился от «злобы людской». Бабка рассказала Фильке историю: через деревню шел старый солдат, который в одной избе попросил хлеба.
Солдат вышел на улицу, свистнул, началась метель, а потом ударил жестокий мороз. Мужик тот помер от «охлаждения сердца». Бабка добавила, что, видимо, такой жестокий человек и теперь завелся в Бережках, поэтому и мороз. Филька стал спрашивать, что же делать теперь.
Бабка ответила, что нужно надеется на то, что исправит этот злой человек то, что сотворил. Всхлипывая, Филька спросил, что нужно сделать для того, чтобы все исправить. Бабка сказал, что об этом знает «хитрый, ученый» Панкрат, но в такой холод до мельницы не дойти. Ночью Филька слез с печи, одел тулупчик и побежал к мельнице.
Он постучал в окошко Панкратовой избы, в сарае за избой заржал и забил копытом конь. Филька испугался, а Панкрат открыл дверь и втащил его в избу. Мельник посадил мальчика к печке и велел рассказывать. Плача, Филька рассказал Панкрату обо всем и спросил, что теперь делать. Панкрат ответил: «Изобрести спасение от стужи.
Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью — тоже. Будешь ты чистый человек, веселый. Каждый тебя по плечу потреплет». На изобретение способа Панкрат дал Фильке «сроку час с четвертью».
В сенях избы Панкрата жила сорока, которая подслушивала весь разговор Панкрата с мальчиком. Она вылетела наружу и полетела на Юг. Ее никто не видел, кроме лисицы.
Филька наконец придумал средство: как только рассветет, он решил собрать ребят со всей деревни и прорубить лед у лотка около мельницы до воды. И как только вода потечет на колесо, Панкрат должен будет запустить мельницу. «Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение».
Чтобы не замерзнуть, они будут жечь костры. Панкрат поинтересовался, а что будет, если ребята не захотят расплачиваться за глупость Фильки. Мальчик на это уверенно ответил, что в деревне его обязательно поддержат, поскольку люди там хорошие.
Мельник пообещал со своей стороны поговорить со стариками — может, и они помогут.
Стоял сильный мороз. На реке стучали ломы, трещали костры — и стар, и мал с самого рассвета скалывали лед у мельницы. Никто не заметил, что после полудня подул теплый ветер и «в воздухе запахло весной, навозом».
К вечеру, когда у мельницы показалась первая полынья, прилетела старая сорока. Она сидела на ветке, смотрела на кричащих ура людей и что-то рассказывала, но ее никто не понял.
Юрий Казаков,,Запах хлеба»
В чем смысл рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба»?
Главная героиня – женщина по имени Дуся. Она живет в Москве со своим мужем. Рассказ начинается 1 января. Выпивший муж открывает дверь и получает телеграмму с сообщением о том, что мать жены умерла. Рассказывает об этом жене, они выпивают. Жена решает, что не поедет, так как родные растащат все имущество. При этом она не может даже заплакать, с матерью они не виделись около 15 лет.
В мае Дуся получает письмо от племянника Миши, в котором сказано, что дом и вещи ее матери целы, и что ее приглашают приехать. Она, наконец, решается.
Приехав, Дуся обнаруживает, что ее никто не встретил. Она удивляется изменениям, произошедшим с деревней (она расширилась). В доме сестры ее встретили тепло, она привезла им гостинцы, а сестра сказала Дусе, что часть вещей из дома матери забрала родня, а скотину взяла она сама.
Окна материнского дома были заколочены, а двери заперты. Попав внутрь, главная героиня почувствовала знакомый с детства запах хлеба. Она словно оказалась в давно приснившемся и уже забытом сне. Продав имущество и дом, Дуся решает сходить на могилу матери, провожать ее пошел Миша.
Увидев могилу, она не может сдержать слез, у нее случается нервный срыв, и она бросается на могилу матери. Испугавшись, Миша убегает за помощью, а когда они приходят, обнаруживают Дусю лежащей на могиле и плачущей.
Проснувшись на следующий день, Дуся находится в хорошем расположении духа, веселой и уезжает в Москву. Через две недели в доме матери стали жить новые люди.
Произведение учит тому, что нужно прислушиваться к своему сердцу, и давно забытое всегда находит отклик в нем.
Можете использовать этот текст для читательского дневника
Черный хлеб
НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ
Николай Филиппович Ильбеков (Мигулай Ильбек) — один из ведущих прозаиков Чувашии. Родился он в 1915 году в с. Три-Избы Шемурша Шемуршинского района Чувашской АССР.
По образованию — учитель. Литературную деятельность начинал как поэт в 1933 году, но по-настоящему талант его раскрылся тогда, когда он обратился к прозе. Уже первые рассказы и новеллы («Однажды ночью», «Время», «Мечта», «Школа» и др.), опубликованные в середине 30-х годов, свидетельствовали о пристальном внимании молодого автора к жизни своего народа, об умении видеть и художественно выразительно показать характерные перемены в его сознании.
Более десяти лет (1937—1948 гг.) писатель служил в рядах Советской Армии. Принимал активное участие в освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии. В годы Великой Отечественной войны находился на фронте: был пулеметчиком, артиллеристом, политработником, редактором дивизионной газеты. Во время обороны Сталинграда сражался в составе легендарной 62 армии. С боями Н. Ильбеков прошел фронтовые дороги от Волги до Болгарии и Югославии. За боевые подвиги на фронте награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медалями.
После возвращения из рядов Советской Армии, с 1948 по 1958 год, работал старшим редактором Чувашского книжного издательства, в течение четырех лет был ответственным секретарем Правления Союза писателей Чувашской АССР. В настоящее время — писатель-профессионал.
Жизненный опыт писателя лег в основу таких сборников повестей и рассказов, как «Мы — советские солдаты», «Четыре дня», «Сурбан», «Война и победа». Много рассказов и очерков он посвятил мужеству и героизму советских воинов в боях против немецко-фашистских захватчиков и самоотверженному труду рабочих и колхозников в тылу («Отец и сын», «Великий подступ», «Мощь», «Ирена», «В госпитале» и др.).
Значительным событием в чувашской литературе явился роман Н. Ильбекова «Черный хлеб», переведенный на русский, эстонский и болгарский языки. Спектакль, поставленный по мотивам этого романа, с большим успехом идет на сцене Чувашского государственного академического театра имени К. В. Иванова.
Главное в романе «Черный хлеб» — драматически сложная судьба дореволюционного чувашского крестьянства. Писатель убедительно, с большим мастерством показывает пробуждение и формирование революционного самосознания трудящихся масс. Он создал яркие, запоминающиеся образы батрака Тухтара, крестьянина-собственника Шеркея и его дочери Сэлиме, деревенского богача Кандюка. Наряду с ними на страницах романа действуют русские Капкай, Миша, Аня, жизнь которых тесно связана с жизнью и борьбой чувашской бедноты.
Точный, яркий язык, умелое использование легенд и преданий, подлинно народная тональность в обрисовке характеров — все это помогает писателю зримо воссоздать колорит минувшей эпохи.
Много сделал Н. Ильбеков в области перевода на чувашский язык произведений русской и зарубежной литератур.
За большие заслуги в области художественной литературы и создание особо ценных произведений ему присвоено почетное звание народного писателя Чувашской АССР. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Есть беспокойные люди, о которых говорят, что они находятся всегда в пути, всегда в поисках нового. К таким принадлежит и Мигулай Ильбек. Он полон творческих сил и замыслов.
ПРОЛОГ
Изба приземиста, сутула, ветха. Перед ней стоит вяз, величавый и пышный, словно богатая невеста в свадебном наряде. Густая листва плотной зеленой чадрой нависла над соломенной крышей, надежно укрывая ее от солнечных лучей. Кровля еще не совсем потеряла свой первоначальный золотистый цвет.
Два подслеповатых окошка покривились. Одно искоса, как будто с недоверием, всматривается в домишки на противоположной стороне улицы, другое тупо уставилось в низенькую завалинку.
Крыльцо красивое, осанистое, с горделиво вскинутым коньком, карнизы узорчатые, перила покрыты замысловатой резьбой. Смешно выглядит оно рядом с неказистой избенкой. Кажется, что старый, истрепанный кафтан из домотканого сукна на груди залатали куском дорогой красивой материи.
Уныло поскрипывают сделанные из жердей ворота. При каждом резком порыве ветра трухлявые, замшелые столбы пугливо вздрагивают. Один столб жмется к крыльцу, другой — беспомощно привалился к углу стоящей вблизи от дома летней лачуги.
Сарай старенький. Из стены торчит деревянный штырь. На нем висит большая, с длинным дубовым лемехом соха для девичьей пахоты[1].
В конюшне конь рыжей масти. Он беспокойно скребет передними ногами пол, часто вскидывая голову с белой звездой на лбу.
Лениво копошатся в навозе пестрые лохмоногие куры.
Чтобы попасть в дом, нужно пройти через небольшие сени, тесно заставленные разной хозяйственной утварью, и подняться по нескольким ступеням.
В избе сумрачно. Свет с трудом проникает сквозь мутные оконные стекла. В оконце, прорубленном во двор, стекла выбиты, и оно завешено черной замусоленной тряпкой.
Душно. Воздух сырой, затхлый.
Около двери развешана на деревянных гвоздях видавшая виды одежонка. Во всю длину стены, выходящей на улицу, протянулась широкая скамья. На одном ее конце громоздятся почти до самого потолка перины и подушки.
В углу стоит липовый стол. Рядом — стул с высокой прямой спинкой, на сиденье которого лежит подушка в кожаной наволочке. Это — место хозяина дома.
Люди тесно столпились в переднем углу. Стоят понуро, дышат осторожно, украдкой. Гнетущую тишину нарушают только надоедливая возня бесчисленных тараканов и хриплое, прерывистое дыхание старика, лежащего на низкой деревянной кровати.
Старого Сямаку разбил паралич. Родные сразу поняли, что дни его сочтены, и покорно примирились с этим: на все воля божья, да и вышел, видать, старику срок. Но очень их волновало и огорчало, что он умирает, лишившись речи. Они надеялись услышать от Сямаки в последний час такие слова, которые сразу бы изменили жизнь всей семьи.
Стараясь исцелить старика от немоты, родственники побывали в дальних деревнях у самых опытных и прославленных юмозей[2], не скупились во время чукления[3], усердно молились всемогущему Пюлеху[4].
Но сколько ни бесновались мутноглазые ворожеи, сколько ни трясли взлохмаченными головами, сколько ни брызгали пенистой слюной, бормоча самые сильные заклинания, — Сямака так и не заговорил. Только правая рука и нога стали немного двигаться.
И вот лежит он, беспомощно запрокинув голову на потемневшую от пота подушку. Лицо обескровленное. Короткая клочковатая борода за время болезни стала совсем белой, свалялась и торчит, как пучок кудели.
Давно уже не было ни крошки во рту у Сямаки, но старик все время пожевывает, почмокивает, словно хочет размягчить закоченевший язык.
Узкие глаза смотрят из-под густых ершистых бровей удивленно и вопросительно. Кажется, Сямака никак не может припомнить, где и когда видел он окруживших его людей.
А стоят перед ним два сына — Шеркей и Элендей — да жена Шеркея Сайдэ с тремя детьми — дочерью Сэлиме и сыновьями Тимруком и Ильясом.
Шеркей скрестил на груди тяжелые волосатые руки и как будто окаменел. Элендей же часто наклоняется к постели, всматривается в лицо отца, прислушивается, нетерпеливо переминается с ноги на ногу.
— Так, значит, ни словечка и не сказал? — неожиданно спрашивает он, подозрительно вглядываясь в глаза брата.
— Ни одного, шоллом[5], ни одного.
Элендей притрагивается к руке отца, щупает его лоб и, бросая слова, словно камни, многозначительно произносит:
— Помрет. Сегодня. Знаю. Приснилось мне: избу новую поставили. Окна не прорублены. Крыши нет. Отец вошел и запер дверь. И звал я, и стучался — не открыл. Все. Каюк.
Шеркей ничего не ответил, только подумал: «Тебе-то мы дом поставили не во сне. Отделился — и живешь в свое удовольствие. Другой бы благодарил, а ты в обмане подозреваешь, завидуешь чему-то. Изо рта готов кусок вырвать, ненасытная утроба».
К.Г. Паустовский «Телеграмма»
Настя живет яркой, наполненной жизнью вдали от одинокой, старенькой матери. Дочери все дела кажутся важными и неотложными настолько, что она совсем забывает писать письма домой, не навещает мать. Даже когда пришла телеграмма о болезни матери, Настя не сразу поехала, а потому и не застала Катерину Ивановну в живых. Мать так и не дождалась своей единственной дочери, которую очень любила.
Л. Разумовская «Дорогая Елена Сергеевна»
Бессердечные, циничные ученики стали упрекать учительницу за ее старомодную одежду, честное отношение к работе, за то, что она всю жизнь учила, а сама не накопила никаких капиталов и не умеет выгодно продать свои знания. Их наглость, бездушие стали причиной смерти Елены Сергеевны.
В. Тендряков «Ночь после выпуска»
В ночь после выпуска одноклассники впервые в жизни решили откровенно сказать друг другу в глаза, что каждый из них думает о присутствующих. И выяснилось, что каждый из них — бессердечный эгоист, ни в грош не ставящий самолюбие и достоинство другого.
В. Тендряков «Ухабы»
Попав в автомобильную аварию. гибнет юноша, и виновником его смерти становится директор МТС, отказавшийся, ссылаясь на инструкции, дать трактор, чтобы доставить пострадавшего в больницу.
Утраты духовных ценностей
Б. Васильев «Глухомань»
События повести позволяют увидеть, как в сегодняшней жизни так называемые «новые русские» стремятся обогатиться любой ценой. Духовные ценности утрачены, потому что культура ушла из нашей жизни. Общество раскололось, в нем мерилом заслуг человека стал банковский счет. Нравственная глухомань стала разрастаться в душах людей, утративших веру в добро и справедливость.
Э. Хемингуэй «Там, где чисто, светло»
Герои рассказа, окончательно утратив веру в дружбу, любовь и разорвав связи с миром, одиноки и опустошены. Они превратились в живых мертвецов.
В. Астафьев «Людочка»
В. Астафьев «Постскриптум»
Автор со стыдом и возмущением описывает поведение слушателей на концерте симфонического оркестра, которые, несмотря на прекрасное исполнение известных произведений, «начали покидать зал. Да кабы просто так они его покидали, молча, осторожно — нет, с возмущениями, выкриками, бранью покидали, будто обманули их в лучших вожделениях и мечтах».
Утраты связи с отчим домом
Ю. Казаков «Запах хлеба»
Дуся, героиня рассказа уехав в город, потеряла все связи с родным домом, деревней, и потому известие о смерти матери не вызывает у нее ни переживаний, ни желания побывать на родине… Однако, приехав продать дом, Дуся ощущает свою потерянность, горько плачет на могиле матери, однако исправить ничего не возможно.
Утраты связи поколений
В. Астафьев «Изба»
В сибирские леспромхозы приезжает молодежь за большими деньгами. Лес, земля, когда-то оберегаемая старшим поколением, превращаются после работы лесорубов в мертвую пустыню. Все нравственные ценности предков затмевает погоня за рублем.
Ф Абрамов «Алька»
Героиня повести в поисках лучшей жизни уехала в город, оставив старую мать, которая умерла, не дождавшись дочери. Алька, вернувшись в деревню и остро осознав утрату, решает остаться там, но этот порыв быстро проходит, когда ей в городе предлагают выгодную работу. Утрата родных корней невосстановима.
Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»
Катерина Измайлова, жена богатого купца, полюбила работника Сергея и ждала от него ребенка. Боясь разоблачения и разлуки с любимым, она убивает с его помощью свекра и мужа, а затем и маленького Федю, родственника мужа.
Р. Брэдбери «Карлик»
Ральф, герой рассказа жесток и бессердечен: он, будучи хозяином аттракциона, подменил зеркало, в которое приходил смотреться карлик, утешавшийся тем, что хотя бы в отражении он видит себя высоким, стройным и красивым. В очередной раз карлик, ожидавший вновь увидеть себя таким же, с болью и ужасом бежит от страшного зрелища, отразившегося в новом зеркале, но его страдания лишь развлекают Ральфа.
Константин Паустовский: Теплый хлеб
— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий зверь — боялся пустыни.
— Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька.
— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.
— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завелся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.
— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?
— Зачем помирать? Надеяться надо.
— На то, что поправит дурной человек своё злодейство.
— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.
— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.
— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.
Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный.
В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.
Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пильщиков пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй и луной осталась одна пустота жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и её было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.
Чёрные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблёскивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками.
Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.
— Садись к печке, — сказал он.- Рассказывай, пока не замёрз.
Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.
— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твоё дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!
Филька сопел, вытирал рукавом глаза.
— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.
— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.
— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью — тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?
— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.
— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.
В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов всё-таки тянуло теплом и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая: куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?
А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал.
— Ну, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твоё вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.
КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ОТРЫВКА Понравилась книга?
Вы можете купить эту книгу и продолжить чтениеХотите узнать цену? ДА, ХОЧУ
Юрий Казаков — Звон брекета
Юрий Казаков
ЗВОН БРЕГЕТА
Еще далеко было до солнца, еще в темноте скрипели и пищали возы, в немногих магазинах со скроготом отворялись двери и ставни, еще безжизненно-холодны были огромные окна дворцов и особняков.
Но по темным, с редкими пятнами тускнеющих фонарей улицам торопился уж мелкий чиновный люд. В подвалах, на чердаках, в обшарпанных бедных домах загорались слабые желтые огни, и свет из окон сквозь замороженные стекла туманно падал на снег, а по лиловому небу летели первые черные галки и все в одну сторону, все молча. И колебался над городом — далеко и близко, явственно, густо и отдаленно, еле различимо, — колебался ровно и ритмично колокольный звон: звонили к заутрене.
Чуть ли не к десяти часам взошло наконец солнце, и поднималось оно медленно — свирепо-холодное, дымное, к десяти часам только засияли под ним розовым серебром купол и колонны Исаакия, замглилась тусклой иглой Петропавловская крепость, неестественно выпрямился Медный всадник, восстал Зимний дворец, и бросила на Дворцовую площадь тень свою шестерка коней на арке Главного штаба.
Солнце взошло будто затем только, чтобы взглянуть, не исчезла ли, не рассыпалась ли прахом за ночь великолепная столица. И увидев, что не исчезла, тут же подернулось мглой облаков. Так начинался этот ослепительный с утра и тотчас померкнувший зимний петербургский день.
В день этот Лермонтов положил себе ехать к Пушкину.
Давно уж болел он смертельной тоской бесцельности жизни. Да и что было любить ему! Парады и разводы для военных? Придворные балы и выходы для кавалеров и дам? Награды и торжественные именины государя, на Новый год и на пасху производство в гвардейских полках и пожалование девиц во фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры?
Мерный шаг учений, пустой пронзительный звук флейты, дробь барабанов, однообразные выкрики команды, наигранная ярость генералов, муштровка и запах лошадиного пота в манеже, холостые офицерские пирушки — это была одна жизнь.
А другая — женщины, молодые и не очень молодые, с обнаженными припудренными плечами, с запахом кремов, духов и подмышек, карточная игра, балы с их исступленной оживленностью, покупная нагло-утомительная любовь и притворно-печальные похороны — и так всю жизнь!
Одно он любил еще, мучительно и жарко, — поэзию. А в поэзии царствовал Пушкин — не тот, маленький и вертлявый, уже лысеющий Пушкин, которого можно было видеть на раутах и о жене которого последнее время дурно говорили, а другой — о котором нельзя было думать без слез.
Болезненно завидовал он людям, знакомым с ним, и краснел при одном только имени его. Он тоже мог бы познакомиться — и уж давно! — но не хотел светского пустого знакомства. Он хотел прийти к нему как поэт и не мог еще, не смел, не был уготован.
И только сегодня наконец какой-то вещий голос сказал ему: «Иди!» — и чувство веселости и страха охватило его. Было что-то странное в его решении, будто вдруг лопнула со звоном, распрямилась и повелительно засвистала стальная пружина — резкий, жаркий толчок ощутил он в сердце: ехать!
И он встал, хоть был болен, велел заложить лошадь, выбежал на снег, на мороз, сел и поскакал — пустился в роковой свой путь.
Встреча должна была произойти, и казалось, ничто не могло предотвратить ее, но случиться должно это было не тотчас — еще не пора было! — а потом, позже, к вечеру.
А теперь, в час пополудни, похудевший от решительности, от тайной лихорадки, сжигавшей его, с пятнами румянца на скулах, Лермонтов был в ресторации Дюме, на углу Гороховой и Морской.
В час пополудни приехал он туда, закиданный снегом, румяный с холоду. И едва взошел, едва разделся, как его обдало горячим запахом соусов, жаркого, вина и душистого табаку. Сквозь стеклянные двери видел он великолепие зала с низкими овальными окнами, крахмальные скатерти, внушительных лакеев, блеск хрусталя, синий воздух и слышал гул говора.
— Пожалуйте-с! Давно изволили не быть. Ваши в кабинете! — сообщил метрдотель и отечески пошел впереди Лермонтова.
Вытирая влажные брови, ресницы и усы, оправляя ментик, подрагивая ногами в синих рейтузах, бренча шпорами, Лермонтов шел за ним и только дергал головой, только мгновенно улыбался, когда его окликали.
Метрдотель открыл дверь, откинул бархатную занавесь, согнулся в поклоне, и Лермонтов вошел в кабинет.
— А! Майошка! — разом вскричали гусары. — Ты ли это? Кабинет был полон дыма и озарен блеском свечей. Здесь был Монго-Столыпин и еще два-три гусара. Все сидели с расстегнутыми воротами, все курили, у всех были раскрасневшиеся лица и блестящие глаза.
Увидев Лермонтова, красавец Монго вскочил и поцеловал его холодное лицо.
— Уже выезжаешь? — радостно спросил он. — Господа, место ему! Что будешь пить?
Все задвигались, потребовали шампанского, еще свечей и трубку. Маленький белокурый гусар с голубыми, туго выкаченными глазами кричал:
— Еду, хоть к черту! — быстро отвечал Лермонтов, принимая от Монго стакан лафита. — Если только лихорадка не уложит меня до вечера.
— Ерунда! — прохрипел мрачный черный гусар и выпустил облако дыма. — У меня тоже лихорадка, но в постель она уложит меня только с цыганкой! Ха-ха.
Тотчас все торопливо отхлебнули по глотку, усиленно затянулись из длинных чубуков, тотчас еще ярче заблестели у всех глаза, и продолжался разговор о женщинах, который за стаканом вина в холостой компании может длиться бесконечно.
А Лермонтову после приступа первой радости стало вдруг как-то не по себе, как-то скучно и одиноко. Он вздохнул и опустил глаза.
— Что с тобой? — спросил Монго, делая серьезное лицо, заглядывая Лермонтову в глаза, но в то же время невольно слушая, что говорили гусары. — Ты еще болен?
— Нет, просто я много думал это время, — тихо сказал Лермонтов.
— Ха-ха! — сказал, прислушавшись, мрачный черный гусар. — Гусар не должен думать. Все дело в случае. А как выпадет случай, сразу сорвешь банк. И любовь — тоже случай! — сказал он уже всем. — Выпьем за случай!
— Случай? — Лермонтов обвел всех глазами. — А кто порукою, что наша воля…
— Ах, опять филозофия! — уныло сказал гусар с тугими глазами. — Ты делаешься несносным, Майошка! Может быть, ты уж и женщин не любишь, а?
Все захохотали, засмеялся и Лермонтов.
— Нет! С вами невозможно хоть минуту побыть серьезным, — сказал он, весело приподнимая усы и блестя зубами. — Дайте мне трубку, давно не курил… И стакан шампанского! Ах, Монго, — понижая голос, быстро добавил он, — как я рад тебя видеть, если бы ты знал! Сегодня ты мне приснился. Я потом тебе расскажу, как ты мне приснился. Вообще со мной случалось много странных вещей, и я сам не знаю, какой путь изберу — путь порока или путь глупости. И тот и другой в наш век имеют одинаковый конец! Значит, господа, едем нынче к цыганам?