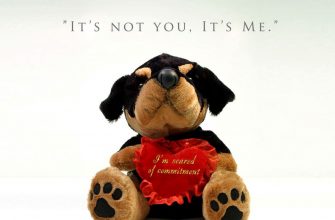Голубая звезда
Очень кратко : Девушка влюбилась в странного мужчину и разорвала отношения с женихом, но мужчина не смог ответить на её чувство — он видел в ней лишь поэтический образ. Девушка решила остаться одна.
Названия глав — условные.
Эту зиму Христофоров проводил в Москве.
Алексей Петрович Христофоров — лет 30, голубоглазый, с пышной шевелюрой, висячими усами и мягкой бородкой, одинокий, нерешительный, мягкий, тихий, странноватый романтик не от мира сего
Недавно у своих знакомых он встретил богатую московскую барыню и получил приглашение на небольшой благотворительный «вечер в пользу русских художников в Париже». Там Христофоров снова встретил своих знакомых Вернадских — Наталью Григорьевну и Машуру.
Наталья Григорьевна Вернадская — седая, представительная дама, немолода, богата, очень рассудительная, решительная, ведёт упорядоченный образ жизни
Машура — приёмная дочь Натальи Григорьевны, тоненькая, с острым подбородком и большими чёрными глазами, тихая, послушная, романтичная, любит и уважает приёмную мать
Наталья Григорьевна познакомила Христофорова с Анной Дмитриевной.
Анна Дмитриевна — молодая вдова, очень богата, высокая, статная, красивая и сильная
Христофоров чувствовал себя чужим в московском высшем обществе. Он долго жил в провинции, давал уроки, работал, где приходилось, и только теперь, получив временную работу в Москве, начал вести более светскую жизнь.
Наталья Григорьевна сообщила, что сняла на лето имение под Звенигородом, по соседству с Анной Дмитриевной, и пригласила Христофорова погостить.
В начале июня Вернадские покинули Москву и на всё лето поселились в большом деревянном доме. Вскоре к ним приехал Антон.
Антон — сын дьячка, считается Машуриным женихом, немного сутулый, коротконогий, некрасивый — широкий лоб, небольшие, глубоко посаженные глаза, плохой цвет лица, упрямый, ревнивый, самолюбивый
Антон знал Машуру ещё с гимназии, часто бывал у Вернадских, уважал Наталью Григорьевну, но терпеть не мог их барского образа жизни. Он любил Машуру, но со свадьбой тянул — ему казалось, что Наталья Григорьевна считает его плебеем. Однако Наталья Григорьевна не была против этого брака, лишь считала, что у Антона слишком сложный характер.
К вечеру приехал Христофоров. Антона он раздражал своим безоблачным спокойствием. Машура начала замечать, что с Христофоровым ей легче и спокойнее, чем с Антоном.
Однажды Христофоров показал Машуре Вегу, голубую звезду, которую считал своей путеводной звездой, и сравнил с ней девушку.
— В вас есть сейчас отблеск ночи, — сказал он, — всех ароматов, очарований… Может быть, вы и сами звезда, или Ночь…
Утром Машура, Христофоров и Антон отправились осматривать находящийся неподалёку старинный монастырь. Туда же на автомобиле прикатила Анна Дмитриевна в сопровождении Никодимова и Ретизанова.
Дмитрий Павлович Никодимов — офицер, любовник Анны Дмитриевны, высокий, сухощавый, коротко стриженный, с нездоровым цветом лица и тёмными глазами, игрок, развратник, негодяй
Александр Сергеевич Ретизанов — знакомый Анны Дмитриевны, худой, седоватый, с синими глазами и изящным лицом, влюбчивый, нервный
Антона настолько раздражала эта компания, что он поссорился с Машурой и уехал. Христофоров решил, что ему не надо оставаться у Вернадских, и уехал с Анной Дмитриевной в Москву.
Христофорову казалось, что его подхватил и несёт бурный поток, но ему, «в его бродяжной, нескрепленной жизни» приходилось гостить у разных людей. Он провёл с Никодимовым и Ретизановым почти всю ночь и узнал их ближе. Ретизанов был влюблён в Лабунскую.
Елизавета Андреевна Лабунская — балерина, восходящая звезда, молодая, красивая, легкомысленная, беззаботная
Никодимов был циником и боялся лифтов.
Утром Анна Дмитриевна отвезла Христофорова на бега. По дороге она рассказала ему, что её совсем ещё девочкой продали замуж за «сверхъестественное миллионное животное». Муж её бил, а она ему изменяла. После его смерти она не хотела о нём вспоминать. С Христофоровым она разоткровенничалась потому, что чувствовала в нём доброту и детскую наивность, поэтому и называла его иногда «дитя».
На бегах Никодимов проигрался. Анна Дмитриевна давала ему деньги. Христофоров понял, что она глубоко несчастна.
Наталью Григорьевну беспокоили отношения Машуры и Антона. После ссоры в монастыре они не разговаривали, Антон ходил мрачный, но из поместья не уезжал.
Заехал за вещами Христофоров. После его отъезда между Машурой и Антоном произошло объяснение. Толком они ничего не выяснили, снова поссорились, и Антон уехал. Вернадские прожили в поместье ещё месяц.
Машура… решила, что пусть будет, как будет. Отныне просто одна она станет заниматься жизнью, маленькими своими делами, ни о ком не думая.
Осенью Машура вернулась в Москву и зажила прежней жизнью — ходила на курсы философии, истории и литературы, в гости и на собрания женского общества, где девушки занимались духовным саморазвитием.
Состоящая в этом же обществе Лабунская пригласила Машуру на артистический вечер. Там девушка встретилась с Христофоровым. Поздно вечером Христофоров провожал её домой. Машура была очарована им, считала его аскетизм и полумонашеский образ жизни загадочным. Она практически призналась ему в любви, но в ответ он лишь пожал её руку. И тогда Машура резко заявила Христофорову, что любит только Антона.
Утром к Вернадским приехал Антон. У Машуры заседало женское общество. Пересилив мрачное раздражение и неуверенность, Антон дождался конца заседания, встретился с Машурой, и они на время помирились.
Зимой Анна Дмитриевна узнала, что Никодимов прилюдно говорил о ней гадости, подделал её подпись на закладной и сожительствовал с неким сомнительным юношей. Она написала ему гневное письмо и назначила встречу в театральной ложе. В тот же день, прогуливаясь, Анна Дмитриевна случайно столкнулась с Христофоровым и пригласила на балет и его.
На следующий день Анна Дмитриевна встретилась с Никодимовым. Тот спокойно признал себя безнравственным человеком. Он считал, что безнравственность — врождённое свойство характера, и не пытался измениться.
…мы, порочные, составляющие касту в обществе, вряд ли сойдёмся когда-либо с довольными собой. Во все времена были мы отверженными. Так и всегда будет.
Глядя на Никодимова, Анна Дмитриевна почувствовала презрение, нежность, обиду, жалость и отвращение.
Помирившись с Антоном, Машура долго считала, «что её сердечные дела прочны». Антон был кроток, предан и весь принадлежал ей, но в глубине души Машура понимала, что её чувство к парню — не совсем то, о чём она мечтала. Она вспоминала летнюю ночь, когда Христофоров показал ей голубую звезду Вегу, и жалела, что Антон ничего не знает о звёздах.
Незадолго до Рождества Машура встретила Христофорова в художественном музее. Позже на улице он сказал Машуре, что любит её и пригласил к себе в гости, чем очень смутил девушку. Она не понимала, как относиться к его словам.
Машура рассказала Антону, что встретила Христофорова. Парень вспылил, сказал, что ему душно в доме Вернадских, и молодые люди снова поссорились. На Рождество и Новый год Антон не появился.
После праздников Машура пошла к Христофорову. Девушка чувствовала сильную влюблённость. Наступил вечер. Они сидели в садике у дома, Христофоров снова сравнил Машуру с Вегой, и тут она поняла, что он не видит в ней женщину.
…ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге… ну, это ваш поэтический экстаз… Это сон какой-то, фантазия, и, может быть, очень искренняя, но это… это не то, что в жизни называется любовью.
Она поняла, что Христофоров не сможет дать ей то, о чём мечтают все девушки — семью, дом. Он не верил в счастье людей, «сообща ведущих хозяйство».
Машура решила навсегда распрощаться с Христофоровым. Он проводил её домой, и у подъезда они столкнулись с Антоном. Он поклонился как чужой и перешёл на другую сторону улицы. Ночью Машура плакала, Христофоров грустил.
Во время Святок все, кроме Никодимова, были приглашены на бал-маскарад. Никодимов явился без приглашения со своим юным любовником. Анна Дмитриевна в порыве чувств предложила Никодимову уехать и начать жизнь сначала, но тот отказался. Позже выяснилось, что на балу он поссорился с Ретизановым, сказав что-то нелицеприятное о Лабунской, и тот вызвал его на дуэль.
Дуэль состоялась утром после бала. Присутствовали мальчик Никодимова, Христофоров и доктор. Никодимов прострелил Ретизанову ключицу.
После дуэли Ретизанов долго болел. Его навещали Христофоров и Лабунская. Она призналась Христофорову, что уезжает в Европу с неким богатым англичанином.
Однажды Христофоров навестил и Никодимова. Тот рассказал, что после окончания военной академии был шпионом, но во время одного из заданий попал в неприятную ситуацию. Его карьера рухнула, из-за чего он начал играть и вести развратный образ жизни. Через несколько дней Никодимов погиб — упал в лифтовую шахту, а спускавшийся сверху лифт перерезал его надвое.
Машура снова помирилась с Антоном и всю зиму они встречались. Весной девушка поняла, что любит его только как друга детства и поступает нечестно, удерживая парня возле себя.
После Пасхи Машура написала Антону письмо. Отправив его, она почувствовала, «что теперь начинается для неё новое». Наталья Григорьевна заподозрила, что дочь в кого-то влюблена.
После гибели Никодимова Анна Дмитриевна уехала из Москвы в своё имение в средней полосе России. У неё гостил Христофоров. С июня он «получал работу в крупной библиотеке южного города» и рад был отдохнуть перед отъездом от непривычно бурной зимы.
Вскоре Христофоров получил письмо от Натальи Григорьевны. Она сообщала, что Ретизанов умер от простуды и тоски по бросившей его Лабунской. С Пасхи Наталья Григорьевна и Машура жили в Крыму, Антон остался в Москве и вряд ли приедет.
Христофорова обрадовало это письмо. Вечером он долго смотрел на Вегу — свою голубую звезду.
Понравился ли пересказ?
Ваши оценки помогают понять, какие пересказы написаны хорошо, а какие надо улучшить. Пожалуйста, оцените пересказ:
Что скажете о пересказе?
Что было непонятно? Нашли ошибку в тексте? Есть идеи, как лучше пересказать эту книгу? Пожалуйста, пишите. Сделаем пересказы более понятными, грамотными и интересными.
В Москве сезон кончался. Христофоров шел на небольшой прощальный вечер в пользу русских художников в Париже; его устраивала московская барыня из тех, чьи доходы обильны, автомобили быстры, туалеты не плохи. Христофоров мало знал ее. Лишь недавно встретил у знакомых своих, Вернадских; и тоже получил приглашение.
— Ах, вы сюда, пожалуйста,- сказала она Христофорову, указывая на гостиную, за эстрадой.- Пойдемте, там и ваши знакомые есть.
Увидев Христофорова, она улыбнулась. Наталья Григорьевна подняла на него свои светлые, несколько выцветшие глаза. Он подошел к ним.
_ А я думала,- сказала она, протягивая руку,- что вы не соберетесь. Значит, и вы пустились в свет. С вашим-то затворничеством туда же.
— Вы знаете,- обратилась она к соседке,- Алексей Петрович одно время проповедовал полное удаление от мира. как бы сказать, полумонашеское состояние.
Соседка взглянула на него и холодновато ответила:
Их познакомили. Она называлась Анна Дмитриевна. Христофоров сел на край кресла и сказал:
Анна Дмитриевна вдруг засмеялась.
Христофоров слегка покраснел.
— Я не знаю,- сказал он и обвел всех глазами.- Я, может быть. не совсем так выражаюсь.
Анна Дмитриевна слегка откинулась на кресле.
— Виновата. Кажется, я просто сболтнула.
Наталья Григорьевна засмеялась.
Разговор пресекся. Вечер же начался. Певица пела. Беллетрист с профилем шахматного коня, во фраке, скучно бормотал свою меланхолическую вещь. Приехал актер, знаменитый голосом, фигурой и фраком. Он ловко заложил руки в карманы, слегка дрыгнул ногой, чтоб поправить складку на Делосовых брюках, и, опершись на камин, сразу почувствовал, что все в порядке, все его знают и любят.
Христофоров наклонился к Машуре и спросил:
— Я не вижу Антона. Его нет здесь? Машура несколько закусила губу.
Актер вышел, читал Блока. В дверь виднелась его сухая, крепкая спина, светлая шевелюра, а дальше, в зрительном зале, все полно было сиянием люстр, белели туалеты дам, отсвечивало золото канделябр и кресел. Когда начали аплодировать, Машура сказала:
— Вы же знаете его. Вдруг рассердился, сказал, что к таким, как Колесникова, не ходят, одним словом, как всегда. Она вздохнула.
— Я ответила, что со мной так нельзя разговаривать. Он ушел, не простился. А я, конечно, отправилась. Да,- прибавила она и улыбнулась,- я совершила еще маленькое преступление: занесла вам ветку черемухи.
Христофоров засмеялся и чуть смутился.
— Я очень рад, что вы.
— Какой у вас странный домик! Мне отворила квартирная хозяйка, старушка старомодная, в шали, там в комнатах киоты, лампадки, половички по крашеному полу. Когда я подымалась к вам по лесенке, на перилах сидел кот. Правда, похоже на келью.
— Я люблю тихие места. Да потом, это мне и по средствам. Ведь вот тут,- он с улыбкой оглянулся,- здесь, вероятно, человек, снимающий в передней пальто, богаче меня.
Машура взглянула на него ласковыми темными глазами.
— Было бы очень странно, если б вы были богаты. Мимо них прошла Колесникова, обмахиваясь веером. Она благодарила знаменитого актера, слегка наклоняясь к нему угловатой, худой фигурой.
— Если б Антон узнал, что я у вас была,- продолжала Машура,- он бы меня знаете как назвал.
Она опять покраснела от недовольства.
Христофоров смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Голубые глаза его расширились.
Изящное, изысканное, благородное (франц.).
— Я иногда гляжу на Антона,- сказал он,- и думаю: он не скоро угомонится. Машура вздохнула.
Против него сидела Анна Дмитриевна. С ней рядом офицер генерального штаба, которого он заметил еще на концерте: человек высокий, сухощавый, стриженный бобриком, с нездоровым цветом лица и темными, без блеска глазами. И он, и Анна Дмитриевна много пили. Она смеялась. Он же был сдержан. Вино, казалось, на него не действовало.
Христофоров спросил о нем Наталью Григорьевну. Та поморщилась.
Повесть Бориса Зайцева «Голубая звезда»: круг символистских идей и художественный опыт Достоевского
Повесть Бориса Зайцева «Голубая звезда»: круг символистских идей и художественный опыт Достоевского
В повести присутствуют два разнонаправленных вектора – роман «Идиот» и комплекс символистских идей. Цель статьи – определить степень влияния Достоевского и символизма в «Голубой звезде» и выявить характер этого воздействия.
Родственность обоих героев проявляется уже в авторских именах-характеристиках: Христофоров (с греческого «христоносец»), т. е. носящий в себе Христа; Мышкина Достоевский в рукописях называет князь-Христос. Христофоров и внешне напоминает своего литературного предшественника: его портрет, от голубых глаз до поношенного сюртука и штиблет, словно списан с героя Достоевского. Кроме этого, и черты характера (отрешенность, «детскость», «странность»), и манера речи героя Зайцева подчеркнуто похожи на мышкинские.
«Голубая звезда» связана с «Идиотом» и в других отношениях: персонажи Зайцева упоминают о романе Достоевского в своих разговорах, Машура так же не понимает Христофорова, как Аглая Мышкина, требуя от него реального, земного чувства. Некоторые второстепенные герои повести Зайцева являются двойниками персонажей Достоевского, повторяя их характерные особенности, имена, настроения: тетка Машуры, княгиня Волконская, – вариант старухи Белоконской из «Идиота», «тайное горе» Анны Дмитриевны у Зайцева – вариант «тайной грусти» Александры у Достоевского.
Сходство двух главных героев лежит на поверхности; гораздо более важной задачей нам представляется выявление различий между Христофоровым и Мышкиным, поскольку зайцевский вариант «положительно прекрасного человека», несомненно, полемичен по отношению к варианту Достоевского.
Начнем с портрета: если внешне герои похожи, то в отношении к своей наружности между ними есть ощутимая разница. В статье, посвященной роману «Идиот», пишет, что князь Мышкин «не придает особого значения своей внешности. Ему кажется, что он «мешковат», неловок, «собою дурен» [4:380]. Христофорова же мы видим впервые перед зеркалом, и он вполне доволен своей наружностью: «Чем не жених?» [3:274]. На протяжении повести он смотрится в зеркало еще не раз.
Показательна речевая характеристика: Христофоров говорит «тихо», «покойно», иногда «со смехом» [3:346], иногда «мягко, как бы с грустью» [3:294]. Мышкин же, хотя тоже имеет «тихий и примиряющий голос» [1, 8:22], нередко говорит «горячо», «неспокойно, прерываясь, часто переводя дух» [1:95], «дрожащим голосом» [1:147], «воодушевляется».
Когда Христофоров появился на даче Вернадских, в «жизнь дома он вошел удобной частью; был незаметен, нешумлив, неутомляющ» [3:288]. Мышкину такая «незаметность» не свойственна. Напротив, везде, где он появляется, вокруг него начинают кипеть страсти и происходить важные события. Например, приехав на дачу Лебедева, он и тут становится средоточием всеобщих интересов.
Герой Достоевского имеет свойство сохранять «невозмутимость, спокойствие духа» перед грубостью и злобой окружающих. «Все это целиком не оставляет его равнодушным, но он умеет сохранить равновесие, не выходить из себя» – пишет Ильин [4:382]. Этой способностью обладает и герой Зайцева: «Задирать Христофорова было нелегко за полной его нечувствительностью» [3:289].
Вместе с тем, Мышкин «человеческое достоинство свое» «умеет блюсти великолепно» [4:381] – вспомним его благородный ответ грубияну-Гане, обозвавшему князя «проклятым идиотом». Мышкин не выносит лжи и несправедливости и всюду, где встречает их, вступает с ними в борьбу. Для Христофорова такая непримиримость ко злу нехарактерна.
Это различие между героями становится еще более очевидным, если сравнить то, как по-разному они ведут себя в похожих ситуациях. Князь дважды вступается за женщин – Настасью Филипповну и Варвару, – отводя от них уже поднятую для удара руку. Христофоров, слыша из уст Никодимова оскорбительные для Машуры фразы, не говорит ни слова в ее защиту и вообще никак не реагирует. За девушку вступается Ретизанов –важное лицо в художественной системе произведения.
Христофоров – носитель пассивного начала, он безвольно отдается жизненному потоку, все его встречи с другими перонажами, события, в которых он участвует, носят случайный характер. Мышкин же активен, он сам ищет того, кто ему нужен, совершает серьезные поступки.
Все перечисленные различия между двумя героями проистекают из несходства их мировоззрений. Христофоров ценит жизнь как вечно меняющийся непрерывный поток, и все люди и явления воспринимаются им как части этого потока и интересуют его именно поэтому. Мышкину же каждый человек дорог и интересен своей индивидуальностью, в любом человеке и явлении князь прозревает суть, замысел Творца.
Образ Мышкина, перенесенный в повесть Зайцева, раздваивается: черты князя несут в себе два персонажа – не только Христофоров, но и Ретизанов. Оба зайцевских героя-двойника позаимствовали у персонажа Достоевского и «добрую, детскую улыбку», и «чудаковатость». Но в остальном это полные противоположности. Можно предположить, что Зайцев, воплотив в Христофорове свои представления о положительном герое, создал и другой, несколько пародийный вариант, пусть с мягкой, но все же иронией преувеличив в нем те качества Мышкина, которые были ему неблизки: излишнюю горячность, нервность, активность, эмоциональность.
В очерке Зайцев дает поэту такую характеристику: «Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам, и разные радиоволны на разное его направляли. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие» [2:175]. Ретизанову тоже присуща нервность, он то и дело «вскипает», окружающие считают его «чудаком», «полубезумным», он общается с какими-то неведомыми духами – «гениями». У этого героя есть и внешнее сходство с автором «Пепла»: Ретизанов – «худой, седоватый, с изящным лицом», с синими глазами [3:291]; Андрей Белый – «с полуседыми клочковатостями волос», «худощавый», «изящный», с глазами «небесного цвета» [2, 170:179].
Ретизанов у Зайцева становится участником дуэли – стреляется, вступившись за честь своей возлюбленной. Он воспринимает свой поступок как отражение натиска темных сил, и утверждает, что его враг – «вовсе не Никодимов, а кто-то другой, более страшный, в его обличье» [3:353]. В очерке о Белом Зайцев описывает похожий случай: повздорив с беллетристом Тищенко, Белый едва не стал дуэлянтом, но в последний момент все обошлось. При этом поэт так объяснял свои действия: «Я не хотел его оскорблять. Тищенко даже симпатичный… но сквозь его черты мне просвечивает другое, вы понимаете… сила хаоса, темная сила» [2:178].
Кроме того, в повести, написанной за шестнадцать лет до смерти Белого, Зайцев удивительным образом предсказал его судьбу. Как известно, поэт скончался в результате полученного им на отдыхе в Крыму солнечного удара. Ретизанов умирает, простудившись «в благословенной Тавриде» [3:376].
Примечательно, что в очерке о Белом Зайцев пишет, что многие сравнивали поэта с князем Мышкиным, находили нечто общее и во внешности, и в поведении: «в университете вышел с ним даже случай схожий: на студенческом собрании, в раздражении спора, кто-то «заушил» его. Он подставил другую щеку» [2:171].
Не менее сильно, чем влияние Достоевского, заявляет о себе в «Голубой звезде» и отражение учения Владимира Соловьева о Вечной Женственности, а также ряда символистских идей. Христофоров считает голубую звезду Вегу своей покровительницей, видит в ней «голубую Деву», которая «наполняла собою мир», «соединяла все облики земных любвей, все прелести и печали, все мгновенное, летучее – и вечное. В ее божественном лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность» [3:378].
Чувство Христофорова близко символистскому идеалу любви. Это «поэтический экстаз», «сон», «фантазия», навеянные Голубой звездой и открывающие в обычной земной девушке «часть ее сияния» [3:338]. Похожие мысли высказывает и Ретизанов. Он тоже обнаруживает в своей возлюбленной «голубоватое эфирное существо, полное легкости и света» [3:369]. Сродни символистской и вера Христофорова в то, что его любовь – «это настоящая жизнь, а то, в чем прозябают люди, сообща ведущие хозяйство, – то, может быть, неправда» [3:339].
По мысли Зайцева, «положительно прекрасный человек», живущий на рубеже XIX – XX столетий неизбежно должен был попасть под влияние символистского мирочувствия. Хотя Христофоров в одном из разговоров и провозглашает, что «нет ничего в мире выше христианства», но тут же признается, что, может быть, понимает его «не совсем так» и считает «аристократической религией», а «множества, середины, посредственности» не любит [3:327]. Это высказывание героя позволяет увидеть в его толковании христианства некоторую неортодоксальную, быть может, даже оккультную окраску.
Многие окружающие замечают в Христофорове «нечто монашеское», самого его называют отшельником, его жилище – кельей или скитом. На протяжении повести герой неоднократно посещает храмы, крестится. Однако в ворота монастыря он входит «машинально» [3:359], в своих «кельях» предается «бесплодным мечтаниям» [3:298]. Т. е. на монаха, или даже просто на воцерковленного мирянина, Христофоров, при ближайшем рассмотрении, не похож.
Мироощущение Христофорова, на первый взгляд, имеет много общего с христианством. Герой любит все живое, ему интересны не только люди, но и горлинка или гусеница, за которыми он внимательно и подолгу наблюдает. Христофоров – созерцатель, все принимающий спокойно, любующийся «переливами, вечными сменами» жизни [3:290]. Его не возмущает и не раздражает даже «темная личность» Никодимов, по отношению к которому Христофоров чувствует «странное любопытство» [3:362]. Но на самом деле это приятие жизни основывается не на христианских принципах смирения и неосуждения. Мироощущение героя не лишено некоторого релятивизма и равнодушия. Недаром Машура упрекает его: «вам все равно, где, с кем жить» [3:290]. Идеал Христофорова, его представление о райской жизни таково: стать «блаженным и бессмертным духом, существующим вечно здесь же, на земле», чтобы жизнь «проносилась предо мной миражем, вечными сменами, и уходящих миражей мне не жаль было, а будущие – я знал – придут» [3:376].
Как мы видим, герой более всего ценит непрерывное движение, изменчивость бытия, что полностью соответствует импрессионистическим принципам, которые были близки Зайцеву в доэмигрантский период его творчества. По мнению специалиста, импрессионисты стремились запечатлеть «ряд волшебных изменений» окружающего, текучесть его проявлений, его непрестанную, вечную динамику» [5:210]. Восприятие людей как путников, странников, характерное для всего творчества Зайцева, в его дореволюционных произведениях проистекает именно из импрессионистского культа движения. Автор называет странником и Христофорова, который чувствует, как «все мчит его какая-то сила, от людей к людям, из мест в места» и наслаждается прохождением «жизнью, среди полей, лесов, людей, городов, вечно сменяющихся, вечно проходящих и уходящих» [3:295]. Такое безвольное движение глубоко отлично от того странствия к Отчему Дому, которое совершают герои поздних книг писателя.
Как мы видим, роман Достоевского подсказал автору «Голубой звезды» образ главного героя. Духовной же основой повести Зайцева послужили наиболее влиятельные идеи Серебряного века: учение Соловьева о Вечной Женственности, важнейшие принципы символизма и импрессионизма.
в статье «Христианская трагедия и Борис Зайцев» указала на тот факт, что «Зайцев был не первый, кто в литературе Серебряного века обратился к образу «князя-Христа» [6:233]. Исследовательница называет еще двух персонажей этого типа, чья литературная родословная восходит к Мышкину – Яна Райвича из рассказа З. Гиппиус «Зеркала» и Ивана Ланде из повести М. Арцыбашева «Смерть Ланде». Как видим, попытка Зайцева создать свой вариант «положительно прекрасного человека» вполне укладывалась в русло идейно-художественных исканий Серебряного века. И все же зайцевского Христофорова отличает от героев Арцыбашева и Гиппиус существенная черта: цель его жизни – поклонение красоте и гармонии, разлитых в мире, которые он тонко чувствует. И в самом Христофорове, и во всей атмосфере повести Зайцева присутствует свет, гармония, спокойствие, благожелательность. Способность во всех проявлениях жизни видеть красоту и гармонию и ценить их превыше всего – характерная особенность творчества Зайцева, обнаруживающая себя уже в самых ранних его рассказах. Благодаря этой способности, писатель позже смог перейти от соловьевства и символизма к православию.
В результате исследования мы приходим к выводу, что Зайцев, опираясь на художественный опыт Достоевского, создает свой вариант «положительно прекрасного человека», сделав его приверженцем символистских идей. Тем не менее, и в герое, и во всей повести Зайцева отсутствует тот тлен, то ощущение духовного нездоровья, которое характерно для большинства произведений Серебряного века. Определяющим образ героя и атмосферу повести является радостное поклонение жизни, гармонии, красоте.
1. Идиот. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1988. – 543 с.
2. Андрей Белый // Собрание сочинений: В 5 т. Т. 6 (доп.). Мои современники. – М.: Русская книга, 1999. – С. 170 – 183.
3. Голубая звезда // Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. – М.: Моск. Рабочий, 1989. – С. 274 – 378.
4. Образ Идиота у Достоевского // Собрание сочинений: В 10 т. Т. 6: Кн. 3. – М.: Русская книга, 1997. – С. 368 – 396.
5. Импрессионизм в поэзии и эстетике символизма // Литературно-эстетические концепции в России конца XIX – начала XX в. – М.: Наука, 1975. С. 207 – 251.
6. Христианская трагедия и Борис Зайцев // Четвертые Международные научные Зайцевские чтения. Вып. 4. – Калуга: Институт повышения квалификации работников образования, 2003. – С. 229 – 234.
В статье выявляется степень и характер влияния наследия Достоевского и важнейших идей символизма на повесть Б. Зайцева «Голубая звезда».
У статті виявляеться ступінь та характер впливу спадщини Достоєвського та найважливіших ідей символізму на повість Б. Зайцева «Блакитна зірка»
The article is devoted to the research of degree and nature of influence of Dostoevsky’s literary heritage and of the simvolists’ the most important concepts on B. Zaytsev’s novel «The Blue Star».