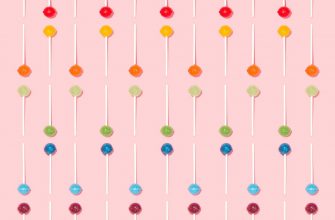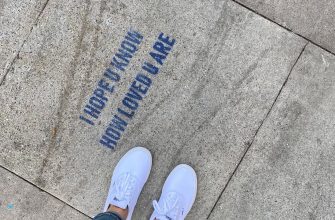Рассказы детей, переживших немецкую оккупацию (3 фото + текст)
Все мы слышали много воспоминаний о Великой Отечественной войне и немецкой оккупации, однако, воспоминания детей, переживших ужас тех лет, нам приходится слышать не особенно часто. Далее вас ждут рассказы детей войны, которые поведали о том, что они видели в первый год оккупации в своих городах и селах.
«Нашли в жите старого Тодора с нашими ранеными солдатами. Принес им костюмы своих сынов, хотел переодеть, чтобы немцы не опознали. Солдат постреляли в жите, а Тодору приказали выкопать яму возле порога своей хаты. Из окна видно, как он копает яму. Вот выкопал. Немцы забирают у него лопату, что-то по-своему ему кричат. Старый Тодор не понимает, тогда они толкнули его в яму и показали, чтобы встал на коленки. Выстрелили. Он только качнулся. Так и засыпали. На коленках.
Всем стало страшно. Что это за люди? Возле порога убили человека и возле порога закопали. Первый день войны. »
Катя Заяц, 12 лет
«Мы ели воду. Придет время обеда, мама ставит на стол кастрюлю горячей воды. И мы ее разливаем по мискам. Вечер. Ужин. На столе кастрюля горячей воды. Белой горячей воды, зимой и закрасить ее нечем. Даже травы нет.
От голода брат съел угол печки. Грыз, грыз каждый день, когда заметили, в печке была ямка. Мама брала последние вещи, ездила на рынок и меняла на картошку, на кукурузу. Сварит тогда мамалыги, разделит, а мы на кастрюлю поглядываем: можно облизать? Облизывали по очереди. А после нас еще кошка лижет, она тоже ходила голодная. Не знаю, что еще и ей оставалось в кастрюльке. После нас там ни одной капельки. Даже запаха еды уже нет. Запах вылизан».
Вера Ташкина, 10 лет
«Двоюродную сестру повесили. Муж ее был командиром партизанского отряда, а она беременная. Кто-то немцам донес, они приехали. Выгнали всех на площадь. Возле сельсовета росло высокое дерево, они подогнали коня. Сестра стоит на санях. У нее — коса длинная. Накинули петлю, она вынула из нее косу. Сани с конем дернули, и она завертелась. Бабы закричали.
А плакать не разрешали. Кричать — кричи, но не плачь — не жалей. Подходят и убивают тех, кто плачут. Подростки шестнадцати-семнадцати лет, их постреляли. Они плакали. »
Вера Новикова, 13 лет
«Приютила нас всех еврейская семья, двое очень больных и очень добрых стариков. Мы все время боялись за них, потому что в городе везде развешивали объявления о том, что евреи должны явиться в гетто, мы просили, чтобы они никуда не выходили из дома. Однажды нас не было. Я с сестрой где-то играла, а мама тоже куда-то ушла. И бабушка. Когда вернулись, обнаружили записочку, что хозяева ушли в гетто, потому что боятся за нас. В приказах по городу писали: русские должны сдавать евреев в гетто, если знают, где они находятся. Иначе тоже — расстрел.
Прочитали эту записочку и побежали с сестрой к Двине, моста в том месте не было, в гетто людей перевозили на лодках. Берег оцепили немцы. На наших глазах загружали лодки стариками, детьми, на катере дотаскивали на середину реки и лодку опрокидывали. Мы искали, наших стариков не было. Видели, как села в лодку семья — муж, жена и двое детей, когда лодку перевернули, взрослые сразу пошли ко дну, а дети все всплывали. Фашисты, смеясь, били их веслами. Они ударят в одном месте, те всплывают в другом, догоняют и снова бьют. А они не тонули, как мячики».
Валя Юркевич, 7 лет
«Возле нашего дома остановилась немецкая машина, она не специально остановилась, она испортилась. Солдаты зашли в дом, меня и бабушку прогнали в другую комнату, а маму заставили им помогать.
Стало темно, уже вечер. Вдруг мама вбегает в комнату, хватает меня на руки и бежит на улицу. Сада у нас не было и двор пустой, бегаем и не знаем, куда спрятаться. Залезли под машину. Они вышли во двор и ищут, светят фонариками. Мама лежит на мне, и я слышу, как у нее стучат зубы, она холодная сделалась. Вся холодная.
Утром, когда немцы уехали и мы вошли в дом, бабушка наша лежала на кровати. привязанная к ней веревками. Голая! Бабушка. Моя бабушка! От ужаса. От страха я закричала. Мама вытолкнула меня на улицу. Я кричала и кричала. Не могла остановиться. »
Люда Андреева, 5 лет
«. Мама что-то пекла из картошки, из картошки она могла сделать все, как сейчас говорят, сто блюд. К какому-то празднику готовились. Я помню, что в доме вкусно пахло. Немцы окружили дом и приказывают: «Выходи!» Вышла мама и мы, трое детей. Маму начали бить, она кричит:
— Дети, идите в хату.
Они заталкивают маму в машину и сами садятся.
. Через много лет я узнала, что маме выкололи глаза и вырвали волосы, отрезали грудь. На маленькую Галю, которая спряталась под елкой, напустили овчарок. Те принесли ее по кусочку. Мама еще была живая, мама все понимала. На ее глазах. »
Валя Змитрович, 11 лет
Воспоминания детей о ВОВ. СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ ЧИТАТЬ!
Цитаты — из книги под редакцией А. Дюкова «За что сражались советские люди».
«Я видел то, что человек не может видеть… Ему нельзя.
Я видел, как ночью пошёл под откос и сгорел немецкий эшелон, а утром положили на рельсы всех тех, кто работал на железной дороге, и пустили по ним паровоз.
Я видел, как запрягали в брички людей… У них — желтые звезды на спине… И весело катались… Погоняли кнутами.
Я видел, как у матерей штыками выбивали из рук детей. И бросали в огонь. В колодец. А до нас с матерью очередь не дошла.
Я видел, как плакала соседская собака. Она сидела на золе соседской хаты. Одна. »
Юра Карпович, 8 лет
«Помню, как горели у убитой мамы волосы… А у маленького возле неё — пелёнки… Мы переползли через них со старшим братом, я держалась за его штанину: сначала — во двор, потом в огород, до вечера лежали в картофлянике. Вечером заползли в кусты. И тут я расплакалась. »
Тоня Рудакова, 5 лет
«Черный немец навел на нас пулемёт, и я поняла, что он сейчас будет делать. Я не успела даже закричать и обнять маленьких.
Проснулась я от маминого плача. Да, мне казалось, что я спала. Приподнялась, вижу: мама копает ямку и плачет. Она стояла спиной ко мне, а у меня не было сил ее позвать, сил хватало, только чтобы смотреть на нее. Мама разогнулась передохнуть, повернула ко мне голову и как закричит: «Инночка!» Она кинулась ко мне, схватила на руки. В одной руке меня держит, а другой остальных ощупывает: вдруг кто-нибудь еще живой? Нет, они были холодные.
Когда меня подлечили, мы с мамой насчитали у меня девять пулевых ран. Я училась считать. В одном плечике — две пули и в другом — две пули. Это будет четыре. В одной ножке две пули и в другой — две пули. Это будет уже восемь, и на шейке — ранка. Это будет уже девять.»
Инна Старовойтова, 6 лет
«У нас в хате собралось шесть человек: бабушка, мама, старшая сестра, я и два младших братика. Шесть человек… Увидели в окно, как они пошли к соседям, побежали в сени с братиком самым маленьким, закрылись на крючок. Сели на сундук и сидим возле мамы.
Крючок слабенький, немец сразу оторвал. Через порог переступил и дал очередь. Я разглядеть не успел, старый он или молодой? Мы все попадали, я завалился за сундук.
Первый раз пришел в сознание, когда услышал, что на меня что-то капает… Капает и капает, как вода. Поднял голову: мамина кровь капает, мама лежит убитая. Пополз под кровать, все залито кровью… Я в крови, как в воде… Мокрый.
Вернулось сознание, когда услышал страшный женский голос… Крик висел и висел в воздухе. Кто-то кричал так, что, мне казалось, он не останавливается. Полз по этому крику как по ниточке, и приполз к колхозному гаражу. Никого не вижу… Крик откуда-то из-под земли идет.
Встать я не мог, подполз к яме и перегнулся вниз… Полная яма людей… Это были все смоленские беженцы, они у нас жили в школе. Семей двадцать. Все лежали в яме, а наверху поднималась и падала раненая девочка. И кричала. Я оглянулся назад: куда теперь ползти? Уже горела вся деревня… И никого живого… Одна эта девочка… Я упал к ней… Сколько лежал — не знаю.
Слышу — девочка мертва. И толкну, и позову — не отзывается. Один я живой, а они все мертвые. Солнце пригрело, от тёплой крови пар идет. Закружилась голова. »
Леонид Сиваков, 6 лет
Из письма обер-ефрейтору Рудольфу Ламмермайеру
Дети войны: Из концлагеря домой мы шли пешком. Лучше было умереть, чем так идти
Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/ Василий Савранский, © личный архив героини
Зайцева Галина Петровна — ребёнок войны. Сейчас ей 78 лет. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего два года. Мама сразу пошла в партизаны и уехала. Отец был врачом и помогал раненым, которых привозили из Ленинграда.
— Это была Смоленщина. Когда пришли немцы, я была с бабушкой, без родителей. Многие родители скрывались, думали, что детей не будут забирать. Вначале всё было спокойно, но 2 октября нас забрали. Разделили: подростков — отдельно, родителей с детьми — отдельно. Нас всех забрали, — говорит Галина Зайцева.
О том, как началась война, она знает по рассказам родственников и знакомых, ведь в два года никто ничего не помнит. Но время, проведённое в концлагере, она не забудет никогда, несмотря на то что, когда она туда попала, ей было всего три года. Воспоминания остались на всю жизнь, а ужасы преследуют даже во сне.
— Я сейчас никак не могу этот праздник. представить. По-моему, все вот эти годы, когда наступает май. У меня это не праздник. Это слёзы и воспоминания. Мы все удивляемся, что — надо же — пришлось нам выжить. Значит, это судьба. Знаете, каждому своё отведено, — со слезами на глазах делится переживаниями и мыслями Галина.
Специально для Лайфа Галина Зайцева рассказала о своих горьких воспоминаниях.
Фото: © РИА Новости/Борис Ярославцев
Мой ужас на всю жизнь
— Вначале мы были в Белоруссии недели две, потом нас погнали к Литве. Там взрослые вывозили торф, работали. Но по весне нас повезли дальше. Мы побывали в Польше и оказались в Кёльне. Здесь был мой концлагерь, мой страх и ужас на всю жизнь.
Чтобы пригнать нас в Кёльн, время от времени немцы сажали нас в вагоны и возили толпами, как скотину. Но большую часть мы шли пешком. Перед тем как гнать нас из Польши в Германию, нас отобрали и взяли самых сильных. В Кёльне было невозможно куда-то выползать, это была настоящая тюрьма. Была сильная охрана с собаками, и немцы ходили как минимум по двое.
Все были взрослыми, даже в таком возрасте — в три года — уже понимали, что надо вести себя тихо и молчать. Никаких капризов — даже не знали, что это. Когда я попала туда, я хорошо понимала, что происходит и где мы. Мы были уже такие взрослые, мы так соображали. Порой смотришь на своих внуков, которым пять лет, удивляешься, что они не соображают, должны быть уже умными вроде
Зайцева Галина, ребёнок войны
У нас в концлагере были дети от трёх до 14 лет, в основном доноры. Немцы у нас брали кровь. Может, кого и на органы пускали, но я этого не видела. Рядом с нами были родители, но они, в отличие от нас, работали. Моих родителей там не было: мать была в партизанском отряде, отец — на фронте. На тех, кто работал рядом с нами, было жутко смотреть — они все были истощёнными, но всё равно помогали нам.
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Козлов
Наш барак был в форме буквы Г, к нам была приставлена надзирательница. Очень хорошо её помню. Эльза — высокая тощая женщина с длинным хлыстом. Родители знали, где мы находимся, поэтому сами не ели и прятали для нас паёк. За ним ходили только те ребята, которые посмелее и постарше, а я была размазня и могла их подвести. Ребята ныряли в щёлочку, дверь открывалась, и они знали, где родители запрятали хлеб. Когда кто-то один выбегал из нашего барака к взрослому, где в земле родители прятали хлеб, мы смотрели за Эльзой. Надо было громко считать до восьми. Если звучало «восемь», это значило, что Эльза в дальнем углу и надо быстрее бежать к нам. Если Эльза узнавала, секла и отбирала всё. Секла так, что больше не захочется ничего.
Все наши надзиратели были женщинами. Они особо зверствовали. Мы иногда старались смеяться, веселить друг друга, но нас за это били, чтоб шума не было. Поэтому как Эльза придёт, так сразу все замолкают
Зайцева Галина, ребёнок войны
Рядом с моим бараком была тётя, сестра мамы. У неё было два ребёнка, не осталось ни одного. Дочь в три годика умерла от голода, а сын в десять лет подорвался. Он с мальчиками побежал к танку. Может, немцы сказали, что там гостинцы. Мальчики все взорвались. Немцы специально так делали — запугивали нас, чтоб мы не смели бежать. Это был ужас, поэтому все говорили: «Не ходите, если немцы будут говорить, чтобы вы шли туда — там гостинцы. Там будут обязательно мины и взрывчатка».
Особенно нас наставляли старшие ребята четырнадцати лет, что нельзя было плакать, а то убьют. Они говорили: «Не плачь, а то будет хуже», — шёпотом успокаивали. Наставляли: «У кого что болит — не говори, нельзя». Все говорили тихо. Все друг друга поддерживали и делились. Дети сами умирали, потому что было невыносимо, еды не было, нам было плохо.
Как только ведром с едой гремели, так сразу мы выстраивались по звуку послушно в шеренгу. Это было в каком-то коридоре. Немцы проходили и что-то лили в кружку. Сколько нальют, столько и получишь. Кто не успел, тому ничего не давали
Зайцева Галина, ребёнок войны
Кто умирал, для тех была отдельная камера. Взрослые, кому 14 лет, начинали шептаться, мол, раз того и того ребёнка нет, значит, умер. И я хорошо помню, как плакали. Наверное, плакали потому, что узнавали, что их брат или сестра умерли.
Немцы обращались с нами жёстко, пинали котелки так, что всё разлеталось. Хотя были и хорошие люди. Единицы. Помню, один немец давал мне хлебушек, говорил, что у него дома такой же «киндер». Значит, всё-таки у кого-то из них есть душа. Хотя я была маленькая, знаю, что некоторых девочек на ночь забирали. Это раньше мы не догадывались куда, а теперь понимаем.
Возвращение: мы шли в Москву пешком
Так продолжалось два года. Когда мне исполнилось пять с половиной лет, все старшие ребята смеялись, а мы спрашивали, чего смеются. Они отвечали: «Победа, наши войска пришли». Отношение немцев стало другое, перестали так зверствовать. Эта Эльза, наша надзирательница, сразу притихла, стала робка и не секла так сильно.
Помню, как сказали, что наши победили и теперь мы «домой, домой». И когда наша часть ворвалась, парни молодые, солдаты, кричали: «Дети, не бойтесь, дети, мы домой вас сейчас будем отправлять». Они нас накормили. Это было такое счастье!
Моё самое яркое воспоминание — когда кричали, что мы победили. Мы так прыгали и так плакали. Победу ещё не видели, а уже начали их котелки ногами поддавать. Немцы все как пришибленные стали. И знаете, уже не они нас били, а мы их. Мы их разгромили. И все дети лагерь ногами и руками пинали
Зайцева Галина, ребёнок войны
Очень тяжело было возвращаться назад. После освобождения нас никто не вёз обратно, мы шли пешком. Армия русская взять нас не могла. Сколько было попыток подойти к железной дороге, но солдаты охраняли военную технику в поездах и нас отгоняли.
По снегу, голодные. По-моему, всем хотелось умереть, но не так идти. А мы потихоньку перебирались
Зайцева Галина, ребёнок войны
Мне абсолютно чужие женщины давали вещи. Помню, женщина юбку себе разорвала и сделала мне портяночки на ноги.
Мы шли как могли. Бежали. Оставались на хуторах, ночевали, потом опять шли. И так от Германии дошли до Москвы. По пути задержались в Польше, потому что там можно было что-то раздобыть покушать.
Не все вернулись домой, многие заболели и умерли моментально — наверное, тиф был. Кто-то доходил до дома и в течение двух недель умирал.
Все дома были опустошены, от некоторых и вовсе ничего не осталось. Тогда возвратившиеся стали копать под корнями деревьев, делать землянки. Так и жили.
Я пришла домой с тётей. Осталась в семье я одна. Всю оставшуюся жизнь меня берегли. Мама и тётя не могли поделить. Отец на войне умер, в Ленинграде, там работал на санитарном поезде врачом.
Дети, которые не попали в Кёльн, в основном все умерли. Кто-то болел, тот, кто пытался добыть пищу, часто попадал на заминированные зоны и взрывался.
Мне уже потом, дома, несколько ребят рассказали, как вернулись. Друг рассказал, что они украли у немцев лыжи и на них бежали в лес. Чтобы собаки их не догнали, они забрались на ёлку, подтянув лыжи. Собаки след потеряли. Их долго искали, но не нашли.
Ребята придумали привязать себя ремнями или верёвкой к дереву, чтобы не уснуть и не упасть. Отсиделись. Когда слезли, знали только то, что надо идти на восток
Зайцева Галина, ребёнок войны
Таких историй очень мало. Но кому-то удалось вернуться. И возвращались ещё через год-два после окончания войны. И знаете, ведь всё равно приходили все на Родину. А в Москве, когда праздновали Победу, все так плакали, все так кричали. Это такой праздник был!
Мы считались людьми второго сорта
Впоследствии, когда всё закончилось, мы никогда не писали, что были в Германии. Ни в одной анкете. Мне мать всегда говорила: «Смотри не напиши, что мы были в эвакуации, в плену и лагере». Даже в институт хороший не принимали, никуда. Почему-то мы считались людьми второго сорта. Я вам честно говорю: была такая анкета, где спрашивали про это. Мы писали, что, «нет, не были эвакуированы», «нет, не были оккупированы немцами». В приличные институты не брали тех, кто был оккупирован и кто вернулся из концлагеря.
Такое длилось долго. Всего лет 15–20 как прекратили это анкетирование.
Сейчас мы празднуем День Победы торжественно, радостно, плачем все, собираемся. Приглашают на парады. В совете ветеранов, где я была председателем медкомиссии, всегда давали приглашения на парад. До сих пор не верится, что мы своими глазами можем видеть всё это, что это не во сне. Так что я уже прабабушка, и это такая радость, счастье.
Очень заботится обо мне внук. Если я остаюсь одна, внук звонит и спрашивает о том, как я, что нужно. Внук всегда говорит, что я расстраиваюсь.
А я всегда помню, сколько неживых и невернувшихся! Как детей на платформу грузили в топку мёртвых, помню. И мне рассказывал другой ребёнок войны, как узнал, что сестра умерла. Когда общаемся с детьми войны — всегда плачу.
Для детей я бы больше всего хотела, чтоб в нашей стране всегда был мир, чтоб они никогда не видели никакой войны. Никакой войны. Вот как сейчас: спокойно учатся, нормальная жизнь. Чтобы мы жили с голубым небом, чтобы мы могли везде побывать. Самое главное, чтоб все любили. И надо любить свою Родину. Тогда выживешь
Зайцева Галина, ребёнок войны
В этот раз на парад не пойду — очень плохо чувствую себя. Уже 80 на носу, так что тяжело. Самое важное, чтоб не было войны. Народ настрадался уже. Народ закалённый. Мы так благодарны, что живы. Как-то ездили в Польшу — точно помню все места и названия. В Германии не была. Почему-то панически боюсь. Вчера поехали узники по концлагерям, меня звали. Но я сказала: «Не-не-не». Даже не хочу на эти бараки глядеть. Помню их даже во сне. Закрываю глаза — и всё помню.
Воспоминания Детей войны
Авторов этих воспоминаний объединяет не только то, что они – дети участников Великой Отечественной войны. Общее в них то, что, несмотря на обожжённое войною детство, которое изобиловало удручающими известиями о фронтовых баталиях, гибели родных и друзей, постоянной борьбой за собственное выживание, они не потеряли чувства достоинства и уверенности в победе. В одном строю со старшим поколением они принялись поднимать из руин города и сёла, промышленность и сельское хозяйство Родины.
По окончании войны каждый из них трудился так, как требовало новое время – время восстановления страны, постепенного его обновления. И это получилось!
(Далее идут (в сборнике их 14) некоторые из воспоминаний членов РОО «Дети Великой Отечественной войны» города Москвы о событиях военных лет, сопровождавших их.Поскольку мы писали их совместно, помогая и подсказывая друг другу, то считаем труд общим. И я с радостью вручаю его на обозрение читателей. Тогда написанные мною пролог и эпилог будут более понятны).
Дети, не эвакуированные из Москвы, оставались дома одни: матери, старшие братья и сёстры «ковали победу над фашистами» на заводах и фабриках. Как правило, это были многонаселённые квартиры, в которых размещались по 3-4 семьи, и в каждой из них росло по 3-4 ребёнка.
Повезло семьям, получавшим паёк, куда входили смалец и патока. На производстве смальцем смазывали станки и приборы, и он же шёл на изготовление мыла, в котором в эти дни ощущался большой недостаток. Вместо сахара появился сахарин, противный до тошноты продукт. Да и с остальными продуктами было туго: для пропитания умудрялись доставать жмых, отходы от семечек, гороха. За счастье почитали добыть гнилую картошку или немного пшённой крупы, да и то в обмен на тряпки, оставшиеся от мирного времени. В школе давали бублик и маленькую карамельку – «подушечку». Кроме того, выдавали по два талона в неделю на обед, который состоял из первого и второго блюд, а также сладкой воды. Мы с подружкой брали один обед на двоих и, таким образом, кормились четыре раза в неделю.
Приютили нас в деревне Воронцовка, близ города Бузулука Чкаловской области. Детей разместили в колхозном клубе, взрослых – в хатах жителей. Колхоз обеспечил нас всем необходимым: овощами, мукой, сахарином. Более того, выделил для нас лошадь, корову, свинью и кур. Дети трудились наравне с взрослыми. 8-ми, 9-и и 10-летние ребятишки работали на кухне, убирали помещения, в которых проживали, и занимались другими хозяйственными делами. 12-и, 13-летним подросткам был поручен уход за животными: уборка, кормление, доение, выезд на лошади по делам в город. Школьники продолжали обучение в местной школе.
Так прожили зиму 1941 – 1942 года. Весной детишки трудились на колхозном поле, помогали обрабатывать земли под огороды, бахчи. Сажали картофель, помидоры, огурцы, тыквы, арбузы, дыни и другие овощи.
Дети взрослели вмиг: 12-,13-,14-летние подростки во время налётов фашистских бомбардировщиков дежурили на крышах – гасили зажигалки. Помогали семьям с малыми детьми и старикам колоть дрова, собирали мусор на стройках. Дежурили в госпиталях, помогая раненым писать письма. Устраивали для них концерты, ухаживали за ними, прибирали в палатах. На уроках труда вязали для фронтовиков носки, варежки. Помню, смастерила кисет для табака и вышила на нём своё имя. До сих пор думаю: интересно жив ли солдат сейчас?
Зиму прожили, а весной в пищу пошла зелень: щавель, крапива, лебеда, листья берёзы и липы. Газоны возле домов занимали под картошку. Сажали мороженые гнилые семена и получали картофель величиной в горох. Но и это было чудо!
Нужда объединяет людей. Голод, холод, жизненные неудобства не озлобляли их, а делали добрее по отношению друг к другу. Это и помогло нашему народу выстоять в такой страшной мясорубке.
Вспоминает Клавдия Бочарова
Война для Сталинского (ныне Восточного посёлка) Москвы, как и для всех советских людей, не была неожиданностью. О ней говорили, к ней готовились. 20 апреля 1941 года были призваны на переподготовку в Литву воины запаса. Среди них был и мой папа – Войленко Мефодий Ильич. Когда их провожали, рассказывала мама, я очень плакала, как будто предчувствовала, что это последняя наша встреча. Так и случилось: он попал в разряд «без вести пропавших». Все послевоенные годы наша семья занималась поисками отца. И наконец, 19 мая 2011 года на мой адрес пришло письмо из Германии с сообщением о том, что членами добровольного общества «Рабочая группа «Берген – Белзен» установлено место захоронения моего отца. Но это отдельная тема.
А сейчас я расскажу о нашей жизни в годы войны. Когда полукольцо вражеских войск сжималось вокруг Москвы, из посёлка в Куровское эвакуировали ребятишек ясельного и детсадовского возраста. Но из-за приближения к столице вражеских войск нас вскоре вернули домой.
Поскольку водопроводная станция, находившаяся на территории нашего посёлка, являлась объектом стратегического назначения: она снабжала водой Москву, то на самой станции и вокруг неё были установлены зенитки, прожектора и аэростаты заграждения.
Хорошо помню детский сад, который находился возле нашего дома. А напротив него – большая площадка с аэростатами, которые во время бомбёжек поднимали в небо и обслуживали в основном девушки. Они держали металлические тросы, за которые были привязаны надувные аэростаты – огромные продолговатые баллоны. Как я узнала позднее, они были длиной 8 метров и диаметром 3 метра. Поднятые вверх аэростаты не давали немецким самолётам низко опускаться над землёй, а с большой высоты назначенные для ликвидации объекты не были так хорошо заметны.
Случалось, сильный порыв ветра резко уносил аэростат в сторону, и если девушки не успевали вовремя отпустить трос, то это заканчивалось для них трагедией. Очевидцем одной из них стала и я. Обычно мне не спалось в «тихий час». Не был исключением и этот день. Я лежала в кроватке и смотрела в окно, которое выходило как раз на площадку расположения аэростатов. Дело было зимой, и мне почудилось, что Дед Мороз помахал мне варежкой. А оказалось, что девушка, не успевшая отпустить трос ударилась об угол здания детского сада и погибла. Этот случай подтвердила в конце 60-х годов подруга погибшей девушки, которая приехала на место своей военной службы, а мне посчастливилось пообщаться с ней.
Помню, как мама иногда ходила через лес в Реутово, чтобы обменять вещи на продукты, потому, что было очень голодно.
Помню, как рабочих в обеденный перерыв кормили в столовой, которая находилась напротив фонтанов.
Помню, военные и послевоенные карточки, очереди в магазины за хлебом и продуктами, где по этим карточкам выдавались положенные пайки.
Вспоминает Тамара Звягинцева
Мне было 9 лет, когда началась война. Жили мы в районе Таганки. Я хорошо помню этот день, хотя и не сразу поняла суть происшедшего. Но понимание пришло быстро. Мы с мамой оклеили окна крест – накрест бумагой, чтобы во время бомбёжек не сыпались осколки стекла. Вечерами, как и все москвичи, плотно завешивали окна, чтобы комнатный свет не просачивался на улицу и не являлся бы « маяком» для фашистских бомбардировщиков.
Как только объявляли воздушную тревогу, мама брала в руки сумку, где заранее было сложено всё необходимое: документы, лекарства, кое-какие вещи, еда, и мы шли в метро (ближайшая от нас была станция «Курская»).
Однажды по возвращении после отбоя воздушной тревоги домой мы увидели, что оконные стёкла в нашей квартире выбиты – видно, бомбили где – то рядом. Это было пустяком по сравнению с тем, когда люди возвращались к разрушенному дому.
Вспоминает Юрий Тюпин:
Родился я на замечательной северной реке Пинеге. Красивейшей реке русского Севера, как писал о ней знаменитый земляк, великий русский писатель Фёдор Александрович Абрамов. Отец мой, Алексей Дмитриевич Тюпин, сельский учитель, в 30-ые годы в своей родной деревне Узгеньга Холмогорского района Архангельской области ликвидировал безграмотность. Односельчане из поколения в поколение и сегодня добрым словом вспоминают «Тюпинскую академию». Мать Таисия Яковлевна родилась в той же деревне в большой семье потомственных северных крестьян поморов Рашевых.
Детство и юность пришлись на трудное военное и послевоенное, со многими лишениями, но по – своему замечательное и счастливое время. Нелёгкой, но полнокровной, наполненной многовековыми традициями и опытом жизнью, жила тогда северная колхозная деревня. Главным критерием был труд. Труд коллективный, колхозный, практически бесплатный, за трудодни. Трудились все, как взрослые, так и дети. Летом пололи и окучивали картошку, свою и колхозную, заготавливали сено и веники для коз и овец.
С середины июля шла заготовка ягод и грибов на зиму. Любимым трудовым занятием для нас, мальчишек, был колхозный сенокос. Здесь вдоволь было верховой езды на лошадях. Колхозные лошади – это отдельная детская радость деревенской жизни. Зимой специально собирались по вечерам в конюшне, чтобы съездить на речку и напоить любимцев в специальной проруби. Весной отощавших лошадей откармливали чем только могли. Летом нас ожидало ещё одно счастливое событие: это коллективные (по 4-5 человек) походы на рыбалку за 5 километров от дома, с ночёвкой в избушке. Такие рыбацкие избы раньше стояли на берегу каждого более-менее приличного озера. Клёв был отменным, только успевай удочку забрасывать, а уж без улова домой не возвратишься.
Начиная с 5-ого класса, в школу ходили за 15 километров, на неделю. Жили в интернате, питание готовили сами и считали это нормальным. Взрослые старательно готовили нас к жизни. Тяжеловато, правда, было дождливой осенью. Без плащей и зонтов, мы приходили в школу, насквозь промокшие, и часто засыпали на уроках. За то с какой радостью мы встречали зиму, сбрасывали надоевшие кирзовые сапоги и обували валенки. Валенки – это лучшая обувь для северной зимы.
Для проживания нам достались и сохранились от прадедов самые удобные и долговечные жилища – северные рубленые дома (хоромины). Сруб прочно держит тепло, лишён духоты, сырости и сквозняков. Важнейшим элементом северной избы является русская печь. Это универсальное устройство для обогрева и приготовления пищи придаёт жилищу неповторимую красоту и уют. Какое удовольствие было, придя замёрзшему с длительных уличных прогулок, влезть на печку и нежиться там в тепле. Нет ничего вкуснее пирогов и шанежек из русской печки. Но самым вкусным в то голодное военное время был горячий житник нового урожая с холодным козьим молоком. Жилая часть дома составляет не более 30-40%. Самое просторное место в северном доме – это поветь. Помещение использовалось для хранения сена, зерна. Здесь же вручную мололи зерно на жерновах. Рядом были обустроены мастерская и туалет. На поветь въезжали на лошади по специально устроенному ввозу. Площадь повети позволяла развернуться лошади с санями. На Пасху там вешали качели. Внизу под поветью размещался двор с хлевом для скота.
В середине прошлого века вокруг северных деревень девственная природа была практически нетронутой. В колхозных лесах не проводилось промышленных рубок. Дичи, ягод и грибов было в изобилии. Я хорошо помню эти времена. В 1958 году окончил Устьпенежскую среднюю школу, а вскоре поступил в Архангельский лесотехнический институт.
Трудовую деятельность начал на Турдеевской лесоперевалочной базе треста «Двиносплав» мастером, а затем техническим руководителем биржевого цеха. Лес, так покоривший меня с детства, остался моим спутником навсегда. Работа, связанная с монтажом и наладкой оборудования, пуском в эксплуатацию новых объектов, внедрением новой техники, была насыщена многочисленными и длительными командировками на предприятия лесотехнического комплекса, давала бесценный опыт, повышала квалификацию.
Мне довелось принять участие в монтаже и наладке оборудования деревообрабатывающего предприятия Оппельхайн в Германской Демократической Республике. За успешную работу меня наградили медалью ГДР. В дальнейшем моя трудовая деятельность была связана с лесным машиностроением. Цель её – производство машин и оборудования для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
Всё это грустно и печально. И я, в свои 70 лет, с помощью кисти и красок, не имея профессиональной подготовки, главным образом по памяти, пытаюсь восстановить на холсте деревню и природу северного края, где прошло моё детство. Приятно, что картины, которые я выставляю на выставки, устраиваемые нашей «детской организацией», вызывают интерес посетителей.
Вспоминает Тамара Дубкова:
Не помню, когда я увидела этот сон впервые, но он преследовал меня в разных вариантах несколько десятилетий. Что такое бомбёжка в реальной жизни, я не испытала. Наверное, что-то было на генном уровне (моя мама попала однажды под бомбёжку ), а может, очень впечатлительны были рассказы мамы и моей старшей сестры о страшных военных днях.
Я родилась 7 апреля 1945 года в подмосковном военном госпитале № 4038, где работали мои родители. Сам госпиталь и его пациентов я не помню, так как мне было два года, когда наша семья вернулась в Москву. Но мама так много рассказывала об этом периоде, что сейчас мне кажется: это и есть мои воспоминания.
В госпитале долечивались раненые солдаты и офицеры и много времени они занимались со мной и моим братом. А два бойца по фамилии Татьянка и Грицко дали мне имя Тамара Мира, и с их лёгкой руки так меня называли все вплоть до нашего отъезда в Москву. А моего брата, который родился в 1942 году, назвали Валерием – Бог Войны. Учитывая, что во время войны мы были совсем крохами, то и жизнь у нас была достаточно беззаботной: мы носились по двору, играли.
По окончании войны мы жили на Яузском бульваре, в коммунальной квартире и занимали 16-метровую комнату. Большая часть в ней была отведена дубовому столу, накрытому скатертью. Для нас с братом он служил местом для игр, а иногда и убежищем от наказаний. И с большим нетерпением мы ожидали обеда. Жили мы голодно. В моей памяти на всю жизнь сохранилось воспоминание о большой, коричневой в мелкую белую крапинку кастрюле. В ней старшая сестра Рита готовила для нас с братом еду. Я до сих пор удивляюсь, каким образом она умудрялась в голодное время, из ничтожного количества продуктов стряпать нечто такое, что у меня до сих пор сохранился в памяти необычный вкус пищи. И поэтому иначе, как «вкусная кастрюля», я эту посудину не называла.
По младости лет я не понимала, что обязана золотым рукам своей сестрички и её неуёмной выдумке, чтобы из ничего мастерить такую вкуснятину. Конечно, и постоянное недоедание подталкивало к тому, что прикосновение к любой пище приводило нас в трепет. Вот и сейчас пишу, а во рту вкус пищи из этой кастрюли. Ничего подобного у меня впоследствии не было.
Маленькой девочкой в День Победы я с радостью наблюдала, как мимо нас идут на парад колонны военнослужащих, многие из которых – участники недавно закончившейся войны. Особый восторг вызывали у меня стройные ряды моряков. Это было, как в сказке. Помню: чёрные мундиры, белые фуражки, белые перчатки, а впереди – бело-голубой флаг. Детские восхищение, восторг и уважение к нашей родной армии со временем только усилились.
Вспоминает Владимир Трибунский:
До трёх лет я себя не помню. Как мне рассказывали, я родился за год до начала Великой Отечественной войны в городе Баку – станция Насосная. Здесь располагалась дивизия военных бомбардировщиков, в которой служил мой отец Трибунский Александр Николаевич, военный лётчик в звании капитана ВВС. А вот помню себя уже в 1943 году в таёжном сибирском местечке Мингоне на Дальнем Востоке, где стояла воинская авиачасть, в которой мой отец был командиром эскадрильи бомбардировщиков. Как я узнал позднее, с самого начала войны советское военное командование держало на Дальнем Востоке крупные силы, так как ожидалось нападение миллионной квантунской армии Японии на Советский Союз со стороны дальневосточных границ.
Таким образом, непременными спутниками моих детских гуляний на улице были землянки, проходящие строем солдаты да гул военных самолётов.
Позже дивизию, в которой служил отец, перебросили на западный фронт биться с фашистскими захватчиками. После войны отец мало рассказывал о сражениях, в которых он участвовал, но у него было шесть боевых орденов и несколько медалей. Я запомнил две: «За взятие Кёнигсберга» и «За взятие Берлина».
А мы с мамой и старшим братом Витей переехали в это время поближе к фронту – в город Ковров Владимирской области. Городок жил, как и все советские города, не оккупированные фашистами. Этот уклад выражался короткой и очень ёмкой фразой: «Всё для фронта, всё для победы!»
Проживали мы в доме, предназначенном для семей фронтовиков. Мужчин там я не видел до самого конца войны, были только женщины и дети. Бытовую сторону описывать не буду, она исчерпывающе охарактеризована в известной песне гениального Владимира Высоцкого: «… все жили мирно, дружно так – система коридорная, на тридцать восемь комнаток всего одна уборная…». И ещё: «… не боялась тревоги соседка, и привыкла к ней мать понемногу, и плевал я, здоровый трёхлетка, на воздушную эту тревогу…».
Прекрасно помню, как мама с другими женщинами ножом соскребали бумажные полоски с окон, наклеенные крест – накрест на стёкла для маскировки, чтобы не привлекать вражеские самолёты-разведчики. В 1944 году в этом уже не было необходимости – Владимирская область была надёжным тылом. Голода, как такового, не помню, но по утрам всегда почему-то просил дать погрызть сухую хлебную корочку…
С 1944 года на улицах города стало появляться всё больше калек в военных шинелях – кто на костылях, кто без руки, а то и вообще безногие, которые передвигались на самодельных дощечках с колёсиками. К некоторым женщинам нашего дома – общежития стали возвращаться раненые мужья. Мама, как манну небесную, ждала письма отца с фронта.
Между тем, наша детская жизнь шла своим чередом: старший брат ходил в школу. Вблизи нашего дома работал кинотеатр, и мы старались не пропустить интересные фильмы, особенно о войне. Неизгладимую память оставил фильм «Иван Никулин, русский матрос» о том, как воюет морская пехота. После этих фильмов мы, мальчишки, устраивали во дворе игры «в войну» и ожесточённо изображали, как кидаемся с гранатами под вражеские танки. Были и вполне мирные картины на темы русских сказок.
Вечерами в длиннющем коридоре нашего дома дети устраивали игры. Здесь заводилами были девочки. Однажды, (кажется, после фильма «Принц и нищий» или «Золушка»)
мы решили разыграть спектакль про «царский двор» и меня, как самого младшего из компании, посадили на трон как принца. А девочки манерно и очень артистично изображали придворных дам, вели светские разговоры, подавали мне изысканные яства (понарошку), а я важно восседал на троне (то бишь, на табуретке) и выслушивал их речи с большим удивлением. Несмотря на суровые военные будни, дети тянулись к чему-то светлому, интеллектуальному, духовному. Приходили и уходили праздники, Помню, как на Новый 1945 год старший брат повёл меня в свою школу на детский новогодний утренник, где был настоящий, как мне казалось, Дед Мороз и другие сказочные герои.
И вот, наконец, в мае 1945 года объявили о взятии Берлина и о победе Красной Армии в Великой Отечественной войне. Как-то ночью сквозь сон услышал стук в дверь и мамин крик. Затем лопотанье брата «папа! папа!». И вдруг, ещё сонный, ощущаю, как кто-то целует меня, прижавшись небритой, колючей щекой. ПАПА вернулся с фронта! ЖИВОЙ.
Но для нашей семьи война на этом не закончилась. Отец заехал к нам только повидаться, их часть срочно перебрасывали на Дальний Восток для проведения операции по освобождению острова Сахалин и Курильских островов от японских захватчиков. А для нас жизнь, теперь уже послевоенная, продолжалась.
На станциях частенько в вагон проникали нищие, которые просили милостыню. Строгая рыжеволосая кондукторша в фуражке одёргивала их и пыталась выпроводить, но ничего не помогало. Иногда в вагон забирались мальчики и начинали громко петь военные песни. Особенно мне запомнился один мальчуган, почти такого же возраста, как я, только весь оборванный. Он пел песню «Прощайте, скалистые горы» и пел так одухотворённо, так выразительно, что, казалось, он пронзил мне душу. Под впечатлением я побежал к маме в купе и стал просить, чтобы она что-нибудь дала мальчишке. Денег у нас, конечно, не было, но краюху хлеба для этого пацана мне удалось выпросить. А вот «злую» кондукторшу, которая его выгоняла, я в душе невзлюбил.
Для меня это был первый в жизни полёт на воздушном судне, и я с большим любопытством оглядывал обстановку внутри салона (если это можно было назвать салоном). В самолёте не было пассажирских кресел, как принято на гражданских судах, а вдоль обоих бортов самолёта во всю длину фюзеляжа тянулись две длинные лавки, на которые и уселись пассажиры, летевшие с нами. Я смотрел в иллюминатор, разглядывал остающийся вдали берег «большой земли», как все называли материковую часть нашей страны, разглядывал Татарский пролив и плывшие по нему крошечные кораблики. Потом началась «болтанка», и я на время отключился: меня укачало. Летели мы четыре часа и, наконец, приземлились. Двери самолёта открылись, пассажиры стали выходить. Светило яркое солнце, зелёная трава под самолётом приятно и гостеприимно расстилалась вокруг. Я вступил на трап и увидел смеющееся лицо отца, ждавшего нас внизу.
Начиналась новая, послевоенная жизнь, вроде бы мирная, но отголоски войны ещё долго сопровождали нас и больно ранили…
Детство пролетело быстро. С 1952 года я уже жил с родителями в Москве, где в 1958 году окончил школу. Я взрослел, а тут подоспел и призывной возраст. 4 года прослужил на корабле Северного Морского Флота (такой срок службы у моряков был в то время). Затем поступил на дневное отделение Московского государственного института иностранных языков им. Мориса Тореза, ныне Московского государственного лингвистического университета, получив специальность «референта-переводчика испанского и английского языков». Это прекрасное
учебное заведение предопределило всю мою дальнейшую увлекательную работу на поприще переводческой деятельности и в сфере международных отношений.
Окончив институт и став дипломированным специалистом, я вновь поехал работать за границу. На этот раз в африканскую республику Судан, где проработал переводчиком английского языка по линии Производственного объединения Внешторга «Авиаэкспорт». В те годы Судан закупил в СССР несколько самолётов АН-24 для использования их в качестве транспортных судов в военной авиации. Но своих пилотов, способных управлять этими самолётами, у них не было. Для обучения лётным навыкам местных пилотов в Судан были командированы наши лётчики-инструкторы. Вот с этими инструкторскими экипажами я и работал. Я сидел в кабине пилотов посередине, слева находился наш пилот-инструктор, а справа – суданский офицер-стажёр (араб). Мы совершали учебные полёты сначала над столичным аэродромом в Хартуме, а затем протяжённость полётов увеличилась, благодаря чему я практически познакомился со всей огромной страной.
Побывал в самом южном суданском городе Джуба, это уже почти у экватора. Здесь проживают в основном не арабы, а чисто негроидные племена и женщины ходят среди бела дня, не прикрывая грудей. Летали через Нубийскую пустыню на побережье Красного моря, в город Порт-Судан: сюда ещё в XVIII веке любили заходить пиратские корабли. На западе страны город Эль-Фашер, граничащий с республикой Чад, поразил нас безжизненной пустыней, без единого зелёного кустика, где местные аборигены пьют воду из маленького грязного озерца, наполненного мутной водой.
Вернувшись из командировки, устроился на работу в одну из структурных организаций Всесоюзного центрального Совета профессиональных союзов (ВЦСПС), который развивал серьёзные двусторонние и многосторонние контакты с родственными профсоюзными организациями и объединениями за рубежом. В международных отделах руководящих органов отраслевых профессиональных организаций я проработал свыше тридцати лет, сначала в должности референта, а позднее заведующего международным отделом.
В разные годы трудился в центральных органах профсоюзов авиационных работников, работников пищевой и химической отраслей промышленности.
К сожалению, распад Советского Союза, резкий отказ от плановой экономики и переход предприятий к выживанию в условиях, так называемого «свободного рынка» привели к резкому спаду производства, в частности, химической отрасли, в которой я работал последние годы на профсоюзной стезе. Большая часть химических предприятий оказалась за границей – в отколовшихся республиках бывшего СССР. Химический комплекс, оставшийся на территории Российской Федерации, также сократил производство. Почти исчез существовавший в условиях социалистической системы хозяйствования государственный заказ. Предоставленные сами себе предприятия начали лихорадочно искать заказчиков и рынок сбыта своей продукции.
Из 2500 химических предприятий в этой ситуации смогли удержаться только 760 стабильных, прибыльных объединений, часть из которых также неуклонно переходит в число убыточных. Естественно, что сократилась и численность трудящихся, занятых ранее в химической отрасли промышленности. Если в 1992 году Росхимпрофсоюз насчитывал 1,8 миллионов членов, то сегодня только 518 тысяч, включая пенсионеров. Таков неутешительный итог безответственного и почти неуправляемого перехода из одной политико-экономической системы в другую.
Красивые рассуждения о свободном рынке оказались ловушкой для «дурачков». Оказалось, что рынок уже не свободный, а давно «схвачен», и никаких новичков здесь не ждут. Предприниматели Европы, бурно радовавшиеся развалу советской плановой экономики, встретили новых поставщиков из России и Белоруссии буквально в штыки. На уровне Европейского Союза была принята, так называемая антидемпинговая программа мер, запрещающая, к примеру, ввоз калия из России, Белоруссии и Украины в Западную Европу. Мотивировалось это вымышленным, ни на чём не основанном утверждением, что наш калий более низкого качества, что сырьё якобы добывается с нарушением техники безопасности. Более того – в России используется дешёвая рабочая сила и так далее и тому подобное. Хотя обвинения и беспочвенны, европейцы добились того, что экспорт калия в их страны запрещён по сей день.
Но российские предприниматели не растерялись, они быстро нашли покупателей в азиатском регионе и получили заказы на много лет вперёд, что свидетельствует о высоком качестве этой продукции. Подобная ситуация сложилась и с другими товарами российской химии. Внедрение транснациональных компаний в российскую экономику, и в химическую отрасль в том числе, не лучшим образом отразилось на положении рабочих. Так, с приходом новых хозяев на российские химические предприятия, таких как «Хенкель КГаА (Германия), Проктер-энд Гэмбл (США), Мишлен (Франция) и других, сразу же начались проблемы у трудовых коллективов этих предприятий. Вот пример. В середине 90-х годов компания Хенкель (ФРГ) стала главным владельцем трёх российских заводов, производящих моющие средства. Поначалу рабочие этих предприятий с гордостью осознавали себя частью крупной транснациональной компании, которая была признанным лидером на международном рынке прикладной химии.
Однако вскоре рабочие разочаровались. Те высокие стандарты трудовых отношений, которые выдерживает компания у себя на родине, в частности на Хенкель – Дюссельдорф, в области оплаты труда, охраны окружающей среды и здоровья трудящихся, техники безопасности на рабочем месте, бережного обращения с квалифицированными рабочими кадрами и пр., абсолютно не проявлялись в отношении работников российских предприятий. При новых хозяевах началось дробление предприятий и вывод вспомогательных производств за рамки предприятий (аутсорсинг), замораживание и без того низкой зарплаты ( и это в условиях высокой инфляции в России), резкое сокращение персонала при отсутствии модернизации технологических процессов. Менеджмент не выполнял условия коллективного договора в области охраны и оплаты труда. Это привело к производственным рискам с точки зрения техники безопасности, сокращению финансовых средств на самые необходимые социальные нужды. Руководство Хенкеля всячески скрывало информацию о доходах предприятий, отказывая профсоюзной организации в необходимости знать истинное экономическое положение и размеры получаемой прибыли.
Такая же ситуация сложилась и на других предприятиях, купленных западными фирмами. Налицо проявились двойные стандарты поведения зарубежных предпринимателей у себя дома и в России. На предприятиях возник психологический дискомфорт, назревали серьёзная конфликтная ситуация, угроза стихийных митингов и остановки работы.
К счастью, забастовочных эксцессов удалось избежать. Помогло вмешательство Российского профсоюза химических отраслей промышленности, с одной стороны, и профсоюза рабочих стран Западной Европы, с другой. Были составлены Протоколы о дальнейшем сотрудничестве, и, начиная с 2003 года, такие совещания проводились регулярно. Вот так непросто проходило и продолжает происходить приобщение российских рабочих к международному капиталу.
Несмотря на различие в профилях отраслей, суть моей работы была примерно одинаковой – поддержка международного сотрудничества с родственными зарубежными организациями. Это: завязывание контактов путём переписки с аналогичными организациями за рубежом, развитие связей в русле общих отраслевых интересов, приём зарубежных делегаций в нашей стране, выезд за границу в составе профсоюзных организаций по приглашению партнёров. Проводили совместные мероприятия у нас и за рубежом. Участвовали в переговорах, семинарах, тренингах, международных конференциях профсоюзных организаций и Международной организации труда. В ходе работы мне довелось посетить немало стран мира, практически всех пяти континентов Земного шара и многие островные государства.
В 2007 году я вышел на пенсию, и, к сожалению, судьба российских профсоюзов от меня уже не зависит, а положение на предприятиях остаётся плачевным.
Работая в общественной профсоюзной организации на международном поприще, я не сделал супер – престижной карьеры и не стал «денежным мешком», к чему сейчас многие стремятся, поскольку заграничные поездки позволяли получать и тратить только скромные командировочные деньги. Но я счастлив, что благодаря поездкам, мне открылся практически весь мир, множество культур, языков и характеров. Я побывал не только в «облизанной», благоприятной Западной Европе, но и в таких экзотических странах, в которых из «наших» мало кто был.
К примеру, мне посчастливилось познакомиться с удивительной природой пятого континента – Австралии, побывать в джунглях, посидеть у костра с аборигенами и своими руками потрогать плоды хлебного дерева, о котором мы слышали в далёком детстве. А вот живого крокодила удалось посмотреть вблизи только в клетке. В Мексике посетили загадочные пирамиды племени майя, тех самых, которые предсказали конец света в 2012 году. Побывал я и в Южной Африке, в зулусской деревне, жители которой и сегодня отличаются первобытным укладом. Поразил своей красотой и мощью Ниагарский водопад. И огромное удовольствие получил я в Канаде, покорив на горных лыжах великолепные олимпийские склоны в ста километрах от Монреаля.
К не менее экзотическим моментам я бы отнёс и небывалый снегопад в Нью-Йорке, где я был в январе 2006 года. В это время весь город занесло снегом. Непривычные к таким природным катаклизмам жители были в шоке. Снегоуборочная техника у них, оказывается, в зачаточном состоянии, поэтому весь транспорт этого многомиллионного города оказался парализован. Лишь на третий день городские власти раздобыли лопаты и предложили безработным расчистить улицы. Вот это хохма! Выходит, кое в чём мы всё же обогнали Америку!
Воспоминания о трудовых годах невольно вызывают в моей памяти слова из известной песни, которую пел Вахтанг Кикабидзе: «Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года – моё богатство…». Применительно к себе, я хотел бы перефразировать последнюю строчку: «Мои впечатления – моё богатство».
Дети войны… Дети, пережившие войну… Дети, познавшие войну… Какое бы определение мы ни подбирали, сущность его противоестественна. Малыши, появившиеся на свет для продолжения рода и процветания Отчизны, для любви и счастья, оказываются вдруг в ситуации, с которой и не каждый-то взрослый справится. Эвакуация, бомбёжки, оккупация, голод, холод, гибель родных и близких, потеря милых сердцу жилищ – такова судьба ребятишек, чьи детство или отрочество совпали с Великой Отечественной войной. чувства собственного достоинства, они шли навстречу трудностям, заняв своё место в борьбе со злобным врагом.
Дети войны гордятся, что им посчастливилось быть сыновьями и дочерьми тех, кто, не колеблясь, встал на защиту Родины. Кому-то повезло: они дождались отцов с фронта. Другие получили страшные извещения о гибели любимых и дорогих им людей. Третьи ищут своих отцов, не вернувшихся с полей сражений, по сей день. И наш долг состоит в том, чтобы ни один из воинов великой страны не остался забытым, даже если он сложил голову в единственном для него бою.
Дети защитников Родины рука об руку с отцами-победителями восстанавливали разрушенное хозяйство страны, закладывали прочный фундамент для её дальнейшего процветания. Они продолжили славные традиции ветеранов Великой Отечественной войны по увековечиванию честного, а не перевёрнутого представления о героическом сражении советского народа за свободу и независимость Родины, а также за освобождение народов, оккупированных фашистами.
Поколения, идущие на смену, должны знать правду о войне и послевоенном времени.
Раиса Лунева, член Объединённого Совета ветеранов Союза
журналистов РФ, в 2011-2012 годах заместитель
председателя Совета организации «Дети Великой