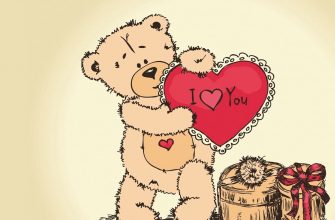Птицы небесные
C горы, по наглаженной, ухабистой дороге, спускался к реке студент Воронов. Возле моста, положив руки на костыль и глядя на реку, стоял какой-то маленький человечек.
Изумрудные льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Голоса баб, полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.
Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах алели. Красновато чернел и сквозил возле церкви сад вороновского поместья, густо и свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами.
Казалось, что стоявший возле моста любуется.
Мимо него, со скрипом, раскатывались, неслись розвальни: шибко возвращался обоз порожняком. И он благоразумно отошел к сторонке.
Стоявший обернулся, что-то крикнул в ответ. И, махнул рукой, закашлялся.
Студент поравнялся с ним, заглянул ему в лицо, под самодельную шапку с наушниками и назатыльником, мехом внутрь. Тогда он смолк, низко поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту, с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле волочились.
Нет, не дурачок. Просто нищий и больной.
Нищий приостановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи.
И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее, таким тоном, точно все обстояло вполне благополучно, кроме того, с чем уж ничего не поделаешь:
— Застыть не застыл. А вот здоровье. Он приподнял грудь:
— А вот здоровье все хужеет! И легонько двинулся вперед.
Студент осмотрел его лапти, онучи: ноги тонки и слабы, онучи тонки и стары, лапти разбиты, велики… И как это он ухитряется ходить по такому морозу?
— Все-таки студишься небось без валенок-то?
Говорить на ходу было трудно. И студент остановился. Остановился и нищий и поспешил положить дрожавшие руки на костыль.
— Дальний. Из-под Ливен.
— Селитру не жег? Очень помогает.
— Нет. Перец. пил. Студент покачал головою.
— Дело хорошее. Как не понимать.
И опять согласился нищий, не придав, видимо, ни малейшего значения селитре:
— Это можно. Деньги не велики.
— А ночевать-то где ноне будешь?
— Ночевать-то? Ночевать везде можно. В Знаменском ночую.
— Ну, побор! Добришко. Рубахи, портки. Порток у меня много. Трое.
За мостом дорога раздваивалась: одна шла круто в гору, к вороновскому поместью, другая, отлогая, наискось к церкви.
Солнце закатывалось. Нищий посмотрел на гору, на черную, густую зелень елок в вороновском палисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгона. И не спеша ответил:
— Беден только бес, на нем креста нет. А мне они почесть без надобности. А коли хочется, дай.
— А пойтить. не пойду. Ночую в Знаменском, ежели. дойду.
И, склонив голову, отдуваясь, полегоньку, нищий упорно побрел по дороге к церкви.
Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась мутно-фиолетовая снежная равнина, отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте. Свет заката еще брезжил на ее крестом простертых крыльях. А темнеющее поле все курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью поземки.
Сняв большую варежку, он неловко взял ледяными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил нищий довольно спокойно:
— Вот за это спасибо. А поминать меня, бог даст, не придется. Дойду.
— Да ведь замерзнешь!
Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего:
— Это тебе-то не плохо?
Нищий гоже взглянул ему в глаза.
— Живешь, как птицы небесные?
— А что ж птицы небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, о раях не думают, замерзнуть не боятся.
— А ты что? Философ? Атеист?
— Не понимаю я этих слов.
— Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить: в бога-то ты веришь?
Студент взглянул на него с еще большим удивлением. Но стоять было так холодно, что он поколебался, поколебался и решительно выговорил:
И, подумав, надел варежку и повернулся. Маленький, сгорбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше, по пояс утонул в сумерках и волнистой снежной зыби, густо бежавшей на него от мельницы.
И всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. До костей промерзнув на ветру, студент заснул крепко, но потом стал сквозь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся. Ставни уже не стучали. И, выйдя на крыльцо, он услыхал отдаленную сонно-певучую перекличку петухов и замер от восхищения. Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после вьюги с севера. Тихая, звонкая ночь, вся золотистая от полумесяца, низко стоявшего над горой, за долиной, мешалась с тонким светом зари, чуть алевшей на востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые и хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск. Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежно-усталый, склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая тройка вся серо-курчавая от инея, с белыми пушистыми ресницами.
Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.
Птицы небесные (сборник) – Бунин И.А.
Вести с родины
“A право, — с улыбкой подумал Волков, сидя вечером в собрании сельскохозяйственного общества, — нигде так не развиваются способности к живописи, как на заседаниях! Ишь, как старательно выводят!”
Головы сидящих за зеленым освещенным столом были наклонены; все рисовали — вензеля, монограммы, необыкновенные профили. Чай, бесшумно разносимый сторожами, изредка прерывал эти занятия. Спор вице-президента с одним из членов общества на время оживил всех; но доклад, который монотонно начал читать секретарь, снова заставил всех взяться за карандаши. Рассеянно глядя на белую руку президента, в которой дымилась папироса, Волков почувствовал, что его трогают за рукав: перед ним стоял его товарищ по агрономическому институту и сожитель по меблированным комнатам, поляк Свида, высокий, худой и угловатый в своем старом мундире.
— Здравствуйте, — сказал он шепотом, — о чем речь?
— Доклад Толвинского: “Из практики сохранения кормовой свекловицы”.
Свида сел и, протирая снятые очки, утомленными глазами посмотрел на Волкова.
— Там вам телеграмму принесли, — сказал он и поднял очки, разглядывая их на свет.
— Из института? — быстро спросил Волков.
— Из института, верно, — сказал Волков.
И, поднявшись торопливо, на цыпочках пошел из залы. В швейцарской, где уже не надо было держать себя напряженно, он вздохнул свободнее, быстро надел шинель и вышел на улицу.
Дул сырой мартовский ветер. Темное небо над освещенной улицей казалось черным, тяжелым пологом. Около колеблющихся в фонарях газовых рожков видно было, как из этой непроглядной темноты одна за другой неслись белые снежинки. Волков поднял воротник и быстро пошел по мокрым и блестящим асфальтовым панелям, засовывая руки в карманы.
“И чего только не рисуют, — думал он. — И как старательно!”
Темнота, сырой ветер, треск проносящихся экипажей не мешали его спокойному и бодрому настроению. Телеграмма, верно, из института… Да она теперь и не нужна. Он уже знал, что через полмесяца будет помощником директора опытного поля; перевезет туда все свои книги, гербарии, коллекции, образцы почв… Все это надо будет уставить, разложить (он уже ясно представлял себе свою комнату и себя самого за столом, в блузе), а затем начать работать серьезно — и практически, и по части диссертации…
— “Восста-аньте из гробов!” — пропел он с веселым пафосом, заворачивая за угол, и столкнулся с невысоким господином, у которого из-под шапки блеснули очки.
Иван Трофимыч живо вскинул кверху бородку и, улыбаясь, стиснул руку Волкова своею холодною и мокрою маленькой рукою.
— Из сельскохозяйственного, — ответил Волков.
— “По домашним обстоятельствам”. А вы?
— Из конторы. Работаем, батенька…
— У вас, значит, и вечерние занятия?
— Да, то есть нет, только весною — к отчету подгоняем… Да скверно, знаете… Даже не скверно, собственно говоря, а прямо-таки — подло… Бессмыслица…
Иван Трофимыч запустил руки в карманы и съежился в своем пальтишке с небольшим, потешным воротником из старого меха.
— Почему? — спросил Волков. Иван Трофимыч встрепенулся.
— То есть как почему? Да на кой черт кому нужна эта работа? Какой смысл, позвольте спросить, в этих пудо-верстах, осе-верстах, пробегах и во всяких этих столах переборов и всяческих ахинеях?
— Ну, положим, смысл-то есть…
— Белиберда! — воскликнул Иван Трофимыч с сердцем. Волков снисходительно улыбнулся.
— Ну, идите куда-нибудь еще, — сказал он спокойно
— Да у вас ведь имеется диплом?
— Ну, и что же? — повторил Иван Трофимыч, поднимая брови и сверкая очками. — Вы думаете, я не ушел бы? Да ради бога — куда угодно! Вы подумайте только, — начал он с напряжением, отчетливо, беря Волкова за борт пальто, но Волков перебил его:
— Отчего же не идете?
— Вам сколько лет? — вдруг спросил Иван Трофимыч.
— Двадцать четыре года и пять месяцев. А что?
— Ну, вот видите! А мне сорок… И, главное, никуда, то есть так-таки никуда меня не пустят. Я ведь якутский человек. Понимаете? Вот теперь люди мрут от голода, есть живое, святое дело… Понимаете? Святое! А разве нас с вами пустят туда?
— Я занимаюсь наукой и работаю, могу сказать, серьезно, — сказал Волков.
— И пудо-верстами вы бы занялись так же серьезно?
— Пожалуй, и пудо-верстами… Я, право, не понимаю, господа…
— Прекрасно, — почти закричал Иван Трофимыч, — я отлично знаю, что вы, господа, многого действительно не понимаете! Только вот что, батенька, — утешаю себя недоверием, понимаете, утешаю себя тем, что многие из вас только играют в эту трезвость! Разумеется, уже сама по себе эта игра…
— Именно играть-то мы и не хотим, — перебил Волков. — Вы говорите: идите, помогайте. А мы будем помогать наукой, а не “хорошими” словами.
Иван Трофимыч махнул рукой.
— Мы, знаете, так раскричались с вами, — сказал он с улыбкой и крепко пожал руку Волкова, — будьте здоровы!
И, повернувшись, съежился и скрылся за углом. Волков постоял, подумал… И, мгновенно забыв об Иване Трофимыче, зашагал еще быстрее.
Он торопливо пробежал лестницу своих меблированных комнат, отпер номер и при спичке разорвал телеграмму.
“Посылаются пятницу девятнадцатого”, — стояло в ней.
На столе, кроме телеграммы, лежали два письма. Адрес на одном из них написан был рукой зятя. Волков зажег свечи, сел на диван и с улыбкой принялся за письмо.
“Любезный брат Дмитрий, — читал он, — мы, разумеется, все живы и здоровы, про тебя, конечно, ничего не знаем: как уехал, прислал два слова; пиши, брат, пожалуйста, поскорее, приедешь ли ты хоть к святой неделе. Отвечай поскорее, а то вот-вот полая вода и на станцию не будет ни проходу, ни проезду…”
Волков перевернул страницу и стал просматривать конец письма:
“Невозможно проехать в город, все метели, а голодают у нас здорово. Впрочем, я тебе не писал со святок, и ты не знаешь, что в Двориках умерло несколько человек. Умерла, брат, наша Федора, кривой солдат воргольский и Мишка Шмыренок. У Мишки прежде умер ребенок, а на первой неделе и сам он — от голодного тифа…”
Волков вдруг опустил письмо… переставил подсвечник и снова с ужасом и напряжением перечитал эти две строки:
“…Умерла Федора, кривой солдат воргольский и Машка Шмыренок…”
Онлайн чтение книги Птицы небесные
С горы, по наглаженной, ухабистой дороге, спускался к реке студент Воронов. Возле моста, положив руки на костыль и глядя на реку, стоял какой-то маленький человечек.
Изумрудные льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Голоса баб, полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.
Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах алели. Красновато чернел и сквозил возле церкви сад вороновского поместья, густо и свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами.
Казалось, что стоявший возле моста любуется.
Мимо него, со скрипом, раскатывались, неслись розвальни: шибко возвращался обоз порожняком. И он благоразумно отошел к сторонке.
– Держись, срежу! – крикнул один из обозчиков, сани которого раскатились особенно лихо.
Стоявший обернулся, что-то крикнул в ответ… И, махнув рукой, закашлялся.
Студент сбежал к мосту, – он все кашлял. По вытянутой шее и склоненной голове, по тому, как он отставил костыль, опершись на него обеими руками, видно было, что кашель затяжной, мучительный. Но, должно быть, притворный: верно, это был дурачок, бродяга по святым местам, и, верно, он заметил барина.
Студент поравнялся с ним, заглянул ему в лицо, под самодельную шапку с наушниками и назатыльником, мехом внутрь. Тогда он смолк, низко поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту, с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле волочились…
Нет, не дурачок. Просто нищий и больной.
Необычна была только аккуратность, с которой лежали мешки за его спиной. Необычен и зипунишка, старый, но тщательно заплатанный. И уже совсем необычно было лицо – лицо подростка лет под сорок: бледное и изможденное, простое и печальное. Черные глазки глядели со странным спокойствием. Пепельные губы среди реденьких усов и бороды полуоткрывались. Прядь длинных волос, по-женски ложившаяся на маленькое восковое ухо под наушником, была суха и мертва. Тело – щуплое, тощее, с болезненно приподнятыми плечами.
– Застыл, старик? – крикнул студент с деланой бодростью.
Нищий приостановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи.
– Нет, – ответил он неожиданно просто и даже как будто весело. – Застыть не застыл…
И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее, таким тоном, точно все обстояло вполне благополучно, кроме того, с чем уж ничего не поделаешь:
– Застыть не застыл. А вот здоровье…
Он приподнял грудь:
– А вот здоровье все хужеет!
И легонько двинулся вперед.
Студент осмотрел его лапти, онучи: ноги тонки и слабы, онучи тонки и стары, лапти разбиты, велики… И как это он ухитряется ходить по такому морозу?
– Уж очень у тебя, дядя, обужа-одежа плоха! – сказал студент.
– Обужа, верно, плоха, – согласился нищий. – А вот одежа… Нет, одежа ничего. У меня под ней кофта ватная.
– Все-таки студишься небось без валенок-то?
Говорить на ходу было трудно. И студент остановился. Остановился и нищий и поспешил положить дрожавшие руки на костыль.
– Дальний… Из-под Ливен.
– Селитру не жег? Очень помогает.
Студент покачал головою.
– Глупо, – сказал он. – Я вот на доктора учусь, доктором, значит, буду… Понимаешь?
– Дело хорошее… Как не понимать…
– Ну, так и послушайся меня: перец не пей, а купи селитры. И стоит-то всего две копейки. Разведи, намочи бумагу, высуши и жги. Подышишь – полегчает.
И опять согласился нищий, не придав, видимо, ни малейшего значения селитре:
– Это можно. Деньги не велики.
– А ночевать-то где ноне будешь?
– Ночевать-то? Ночевать везде можно… В Знаменском ночую…
– Как в Знаменском? – сказал студент. – Но ведь ты туда к свету со своей ходьбой придешь!
– Мне спешить некуда, – ответил нищий и так просто, что студент слегка смешался. Помолчал и спросил:
– Ну, побор! Добришко… Рубахи, портки. Порток у меня много… Трое…
За мостом дорога раздваивалась: одна шла круто в гору, к вороновскому поместью, другая, отлогая, наискось к церкви.
– Слушай, – сказал студент, – пойдем к нам. Я бы тебе деньжонок дал…
Солнце закатывалось. Нищий посмотрел на гору, на черную, густую зелень елок в вороновском палисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгона… И не спеша ответил:
– Беден только бес, на нем креста нет. А мне они, почесть, без надобности. А коли хочется, дай.
– А пойтить… не пойду. Ночую в Знаменском, ежели… дойду…
И, склонив голову, отдуваясь, полегоньку, нищий упорно побрел по дороге к церкви.
Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась мутно-фиолетовая снежная равнина, отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте. Свет заката еще брезжил на ее крестом простертых крыльях. А темнеющее поле все курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью поземки.
– На-ка вот тебе полтинничек, – слегка задохнувшись, сказал студент, когда на скрип его шагов нищий обернулся и остановился. – Да скажи, как поминать тебя, – прибавил он шутливо.
– А мне теперь ничего, полегчало, – ответил он бодро, хотя лицо его посинело и сморщилось, а на глазах от ветра выступили слезы.
Сняв большую варежку, он неловко взял ледяными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил нищий довольно спокойно:
– Вот за это спасибо… А поминать меня, бог даст, не придется… Дойду.
– Серьезно, как звать-то тебя и что ты за чудак такой? – спросил студент.
– Звать-то? Звали Лукой… А уж чем чуден я – не знаю.
– Да ведь замерзнешь!
– В рай, значит, спешишь попасть? – сказал студент, трогая ухо и поворачиваясь от ветра.
– Зачем в рай? Это еще дело темное – не то есть он, рай-то, не то нет. А мне и тут не плохо.
Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, знобил, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего:
– Это тебе-то не плохо?
Нищий тоже взглянул ему в глаза.
– А что ж мне? – спросил он. – Беден только бес, на нем креста нет. А я живу себе.
– Живешь, как птицы небесные?
– А что ж птицы небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, об раях не думают, замерзнуть не боятся.
– А ты что? Философ? Атеист?
– Не понимаю я этих слов.
– Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить: в Бога-то ты веришь?
– В Бога нет того создания, чтоб не верило, – твердо сказал он.
Студент взглянул на него с еще большим удивлением. Но стоять было так холодно, что он поколебался, поколебался и решительно выговорил:
– Стало быть, прощайте, – отозвался нищий и тряхнул своей круглой шапкой. – Спаси Христос…
И, подумав, надел варежку и повернулся. Маленький, сгорбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше, по пояс утонул в сумерках и волнистой снежной зыби, густо бежавшей на него от мельницы…
Вечером студент долго ходил из угла в угол по залу. Прислуга спала. На столе горела лампа, в углу, перед иконой – лампадка: когда барыни не было дома, нянька всегда зажигала ее, – чтобы Бог дал благополучную дорогу. И теперь студент с тревогой посматривал на часы, – был уже девятый, а матери все не было.
– Дикарь! – говорил он иногда вслух, вспоминая нищего.
Ночью он спал мало. С вечера читал Юнга и часов в десять, в валенках и башлыке, вышел взглянуть на восход Близнецов. И на пороге сеней оторопел: показалось, что свету божьего не видно, – так гулко шумел сад от морозной бури, так бешено несла поземка. Но сад четко чернел над ее непрерывно несущимися вихрями, и звезды огнем горели на черном чистом небе. Утопая в снегу, нагибая голову от жгучей, захватывающей дух пыли, студент одолел гудящую аллею и глянул в поле: темь, смутно волнующееся белесое море – и над ним, как два страшных, то исчезающих, то появляющихся алмазно-голубых глаза, две ярких, широко расставленных звезды…
Второй раз студент добрался до садового вала в двенадцатом часу. Стало еще морознее и страшнее. Все спит мертвым сном, нигде ни огонька, сад ревет властно и дико. Небо еще чище, чернее, звезды еще пламеннее. А над белым морем метели – два других, еще шире раскинутых, кровавых глаза: Арктур и Марс. Остро блещут зерна Волопаса, веером рассыпанные на горизонте за мельницей. Близнецы, сдвинувшись, горят почти над головой…
«Замерзнет, черт!» – с сердцем подумал студент про нищего.
И всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. До костей промерзнув на ветру, студент заснул крепко, но потом стал сквозь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся… Ставни уже не стучали. И, выйдя на крыльцо, он услыхал отдаленную сонно-певучую перекличку петухов и замер от восхищения. Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после вьюги с севера. Тихая, звонкая ночь, вся золотистая от полумесяца, низко стоявшего над горой, за долиной, мешалась с тонким светом зари, чуть алевшей на востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые и хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск. Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежно-усталый, склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая тройка – вся серо-курчавая от инея, с белыми пушистыми ресницами…
Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.
Птицы небесные
С горы, по наглаженной, ухабистой дороге, спускался к реке студент Воронов. Возле моста, положив руки на костыль и глядя на реку, стоял какой-то маленький человечек.
Изумрудные льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Голоса баб, полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.
Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах алели. Красновато чернел и сквозил возле церкви сад вороновского поместья, густо и свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами.
Казалось, что стоявший возле моста любуется.
Мимо него, со скрипом, раскатывались, неслись розвальни: шибко возвращался обоз порожняком. И он благоразумно отошел к сторонке.
– Держись, срежу! – крикнул один из обозчиков, сани которого раскатились особенно лихо.
Стоявший обернулся, что-то крикнул в ответ… И, махнув рукой, закашлялся.
Студент сбежал к мосту, – он все кашлял. По вытянутой шее и склоненной голове, по тому, как он отставил костыль, опершись на него обеими руками, видно было, что кашель затяжной, мучительный. Но, должно быть, притворный: верно, это был дурачок, бродяга по святым местам, и, верно, он заметил барина.
Студент поравнялся с ним, заглянул ему в лицо, под самодельную шапку с наушниками и назатыльником, мехом внутрь. Тогда он смолк, низко поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту, с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле волочились…
Нет, не дурачок. Просто нищий и больной.
Необычна была только аккуратность, с которой лежали мешки за его спиной. Необычен и зипунишка, старый, но тщательно заплатанный. И уже совсем необычно было лицо – лицо подростка лет под сорок: бледное и изможденное, простое и печальное. Черные глазки глядели со странным спокойствием. Пепельные губы среди реденьких усов и бороды полуоткрывались. Прядь длинных волос, по-женски ложившаяся на маленькое восковое ухо под наушником, была суха и мертва. Тело – щуплое, тощее, с болезненно приподнятыми плечами.
– Застыл, старик? – крикнул студент с деланой бодростью.
Нищий приостановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи.
– Нет, – ответил он неожиданно просто и даже как будто весело. – Застыть не застыл…
И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее, таким тоном, точно все обстояло вполне благополучно, кроме того, с чем уж ничего не поделаешь:
– Застыть не застыл. А вот здоровье…
Он приподнял грудь:
– А вот здоровье все хужеет!
И легонько двинулся вперед.
Студент осмотрел его лапти, онучи: ноги тонки и слабы, онучи тонки и стары, лапти разбиты, велики… И как это он ухитряется ходить по такому морозу?
– Уж очень у тебя, дядя, обужа-одежа плоха! – сказал студент.
– Обужа, верно, плоха, – согласился нищий. – А вот одежа… Нет, одежа ничего. У меня под ней кофта ватная.
– Все-таки студишься небось без валенок-то?
Говорить на ходу было трудно. И студент остановился. Остановился и нищий и поспешил положить дрожавшие руки на костыль.
– Дальний… Из-под Ливен.
– Селитру не жег? Очень помогает.
Студент покачал головою.
– Глупо, – сказал он. – Я вот на доктора учусь, доктором, значит, буду… Понимаешь?
– Дело хорошее… Как не понимать…
– Ну, так и послушайся меня: перец не пей, а купи селитры. И стоит-то всего две копейки. Разведи, намочи бумагу, высуши и жги. Подышишь – полегчает.
И опять согласился нищий, не придав, видимо, ни малейшего значения селитре:
– Это можно. Деньги не велики.
– А ночевать-то где ноне будешь?
– Ночевать-то? Ночевать везде можно… В Знаменском ночую…
– Как в Знаменском? – сказал студент. – Но ведь ты туда к свету со своей ходьбой придешь!
– Мне спешить некуда, – ответил нищий и так просто, что студент слегка смешался. Помолчал и спросил:
– Ну, побор! Добришко… Рубахи, портки. Порток у меня много… Трое…
За мостом дорога раздваивалась: одна шла круто в гору, к вороновскому поместью, другая, отлогая, наискось к церкви.
– Слушай, – сказал студент, – пойдем к нам. Я бы тебе деньжонок дал…
Солнце закатывалось. Нищий посмотрел на гору, на черную, густую зелень елок в вороновском палисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгона… И не спеша ответил:
– Беден только бес, на нем креста нет. А мне они, почесть, без надобности. А коли хочется, дай.
– А пойтить… не пойду. Ночую в Знаменском, ежели… дойду…
И, склонив голову, отдуваясь, полегоньку, нищий упорно побрел по дороге к церкви.
Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась мутно-фиолетовая снежная равнина, отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте. Свет заката еще брезжил на ее крестом простертых крыльях. А темнеющее поле все курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью поземки.
– На-ка вот тебе полтинничек, – слегка задохнувшись, сказал студент, когда на скрип его шагов нищий обернулся и остановился. – Да скажи, как поминать тебя, – прибавил он шутливо.
– А мне теперь ничего, полегчало, – ответил он бодро, хотя лицо его посинело и сморщилось, а на глазах от ветра выступили слезы.
Сняв большую варежку, он неловко взял ледяными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил нищий довольно спокойно:
– Вот за это спасибо… А поминать меня, бог даст, не придется… Дойду.
– Серьезно, как звать-то тебя и что ты за чудак такой? – спросил студент.
– Звать-то? Звали Лукой… А уж чем чуден я – не знаю.
– Да ведь замерзнешь!
– В рай, значит, спешишь попасть? – сказал студент, трогая ухо и поворачиваясь от ветра.
– Зачем в рай? Это еще дело темное – не то есть он, рай-то, не то нет. А мне и тут не плохо.
Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, знобил, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего:
– Это тебе-то не плохо?
Нищий тоже взглянул ему в глаза.
– А что ж мне? – спросил он. – Беден только бес, на нем креста нет. А я живу себе.
– Живешь, как птицы небесные?
– А что ж птицы небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, об раях не думают, замерзнуть не боятся.
– А ты что? Философ? Атеист?
– Не понимаю я этих слов.
– Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить: в Бога-то ты веришь?
– В Бога нет того создания, чтоб не верило, – твердо сказал он.
Студент взглянул на него с еще большим удивлением. Но стоять было так холодно, что он поколебался, поколебался и решительно выговорил:
– Стало быть, прощайте, – отозвался нищий и тряхнул своей круглой шапкой. – Спаси Христос…
И, подумав, надел варежку и повернулся. Маленький, сгорбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше, по пояс утонул в сумерках и волнистой снежной зыби, густо бежавшей на него от мельницы…
Вечером студент долго ходил из угла в угол по залу. Прислуга спала. На столе горела лампа, в углу, перед иконой – лампадка: когда барыни не было дома, нянька всегда зажигала ее, – чтобы Бог дал благополучную дорогу. И теперь студент с тревогой посматривал на часы, – был уже девятый, а матери все не было.
– Дикарь! – говорил он иногда вслух, вспоминая нищего.
Ночью он спал мало. С вечера читал Юнга и часов в десять, в валенках и башлыке, вышел взглянуть на восход Близнецов. И на пороге сеней оторопел: показалось, что свету божьего не видно, – так гулко шумел сад от морозной бури, так бешено несла поземка. Но сад четко чернел над ее непрерывно несущимися вихрями, и звезды огнем горели на черном чистом небе. Утопая в снегу, нагибая голову от жгучей, захватывающей дух пыли, студент одолел гудящую аллею и глянул в поле: темь, смутно волнующееся белесое море – и над ним, как два страшных, то исчезающих, то появляющихся алмазно-голубых глаза, две ярких, широко расставленных звезды…
Второй раз студент добрался до садового вала в двенадцатом часу. Стало еще морознее и страшнее. Все спит мертвым сном, нигде ни огонька, сад ревет властно и дико. Небо еще чище, чернее, звезды еще пламеннее. А над белым морем метели – два других, еще шире раскинутых, кровавых глаза: Арктур и Марс. Остро блещут зерна Волопаса, веером рассыпанные на горизонте за мельницей. Близнецы, сдвинувшись, горят почти над головой…
«Замерзнет, черт!» – с сердцем подумал студент про нищего.
И всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. До костей промерзнув на ветру, студент заснул крепко, но потом стал сквозь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся… Ставни уже не стучали. И, выйдя на крыльцо, он услыхал отдаленную сонно-певучую перекличку петухов и замер от восхищения. Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после вьюги с севера. Тихая, звонкая ночь, вся золотистая от полумесяца, низко стоявшего над горой, за долиной, мешалась с тонким светом зари, чуть алевшей на востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые и хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск. Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежно-усталый, склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая тройка – вся серо-курчавая от инея, с белыми пушистыми ресницами…
Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.