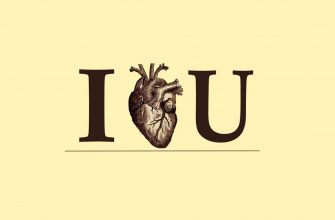Чудеса на войне: реальные истории спасения, рассказанные участниками

28 января 1942 едва не стало последним днем его жизни. В ходе зимнего контрнаступления под Москвой, экипаж его танка БТ-7 неожиданно на северо-восточной окраине села Вельмежа наткнулся на немецкую батарею 105-миллиметровых орудий. Выстрелив по ним пару раз, танк на большой скорости ринулся на батарею и, передавив несколько пушек, был подбит.
Слышу: «С-серега!» Это Соболев.
Я инстинктивно отклонился в сторону. Второй фашист промахнулся по мне прикладом. А Соболев не промахнулся, ударил его по стальной каске так, что приклад расщепился. Я вскочил, шарю руками винтовку, а в глазах муть, шатаюсь как пьяный. Не знаю, сколько времени прошло, пока стал соображать. Вижу, рядом стоит Соболев, разглядывает приклад своей винтовки. Рожь кругом потоптана, вперемешку лежат убитые — наши и противника. Тишина».
— А вы под счастливой звездой родились, товарищ майор, — полушутя полусерьезно сказал он.
— Да? Не уверен. С чего это вы взяли?
— Осколок зенитного снаряда пробил пол в кабине прямо перед вашим сиденьем, а вас даже не задело.
— Ну, может быть, вы и правы, — засмеялся я».
Войсковой разведчик Георгий Егоров прошел Сталинградскую и Курскую битвы, но один бой остался в его памяти навсегда.
Тогда 14 разведчиков ушли в ночной рейд за «языком», а вернулись лишь двое. Сам Егоров, который делал еще только первые шаги в разведке, и командир Иван Исаев. Остальных скосил немецкий пулеметчик, которого они с Исаевым и скрутили, получив за это медали «За отвагу».
И еще снится, как я бегу на амбразуру. А ребята впереди меня падают и падают. И я знаю, что вот-вот должен упасть и я. Но бегу и не падаю.
Тридцать с лишним лет бегу и каждый раз жду, что вот теперь-то и я упаду и мне от этого станет сразу легче — я буду лежать рядом со всеми. Но каждый раз снова и снова преодолеваю то расстояние до дзота и каждый раз вижу, как падают и падают ребята. «
А вот исповедь другого разведчика, который, так же, как Егоров, начинал воевать под Сталинградом. Леонид Вегер ушел на фронт сразу после школы. В 1943 году был ранен, стал инвалидом II группы. После войны работал ведущим научным сотрудником института экономики РАН.
Итак, февраль 1943 года, ночь, заснеженное поле нейтральной полосы и очередная отчаянная попытка добыть «языка». Внезапно Вегер вспоминает, что перед ними – минное поле.
«Идти ночью по минному полю — не сахар. Ужас сковывал меня при каждом шаге. Как только я делал шаг и выносил ногу вперед, меня охватывал страх.
Я почти физически ощущал, как это произойдет. Что может быть страшнее для восемнадцатилетнего юноши?
Говорят, в окопах не бывает атеистов. Вот и Кобылянский, член ВКП (б), в самые страшные мгновения инстинктивно обращался к Богу – как это было во время жуткой бомбежки, после того, как он чудом избежал плена:
«Прижавшись всем телом к сырой траве и уткнувшись в нее лицом, я «защитил» голову ладонями, плотно зажмурил глаза и, неверующий, молча молился неведомым высшим силам: «Сохраните мне жизнь! Ведь я еще так молод, не имею детей, и если погибну сейчас, никакого следа от меня на Земле не останется!» Подобное случалось несколько раз, всегда в критических ситуациях, когда от тебя ничего не зависит, ты беззащитен, бессилен, обречен на бездействие и покорно ждешь своей участи».
Протоиерей Рафаил Маркелов ушёл на фронт 1943 году в 17 лет. Туда, где с первого месяца войны воевал его отец. Мать к тому времени давно умерла, а младший брат и сестры попали в детский дом. Воевал он снайпером в 208-й стрелковой дивизии.
6 августа 1944 при освобождении Латвии 18-летнего новгородского паренька тяжело ранило из миномета, и в строй он уже не вернулся. На всю жизнь остались в ноге три осколка.
К Богу обращались постоянно, и не только он, но и его сослуживцы. «Молиться мы так уж не молились, но все же, в основном, люди были верующие, я так думаю. Во всяком случае, крестики очень многие носили, да и «Господи помилуй» постоянно слышалось. Особенно когда в атаку идти, перед боем. Хотя и не разрешалось это, но все равно всегда ведь найдешь место, где помолиться: на посту стоишь и молишься про себя, просишь у Бога, что тебе нужно. Никто не помешает».
Но, как говорится, на Бога надейся да сам не плошай. На вопрос, что было самым трудным на войне, отец Рафаил ответил: «Уберечь себя, остаться живым. Там ведь как? Дело делай, а по сторонам-то не зевай, смотри в оба, а то пропадешь».
Что такое чудо, он, четырежды раненный и контуженный, знал не понаслышке. Вот лишь один день из его жизни на передовой – 16 июля 1943 года.
К вечеру в том же составе они возвращались обратно. «Вдруг неожиданный рев, какой-то шлепок. Лицо и грудь забрызгало чем-то теплым и мокрым. Инстинктивно падаю. Все тихо. Протираю глаза — руки и гимнастерка в крови. На земле лежит наш старичок. Череп его начисто срезан болванкой. Молодой стоит и отупело смотрит вниз, машинально стряхивая серо-желтую массу с рукава. Потом начинает икать… Беру документы убитого и веду паренька под руку дальше. Наверное, у него припадок… Сдал фельдшеру».
. Все они были на волосок от смерти. Что помогало выжить? Чудо? Воинское умение? Случай? Воля Божья? А может, всё вместе? Думать, спорить и сомневаться будут всегда. Одно известно: пройдя через горнило страшных боев, эти люди остались в живых. Хотя рядом гибли их товарищи. О павших помнит и рассказывает каждый из наших героев. О тех, ушедших от нас. Кому посвящено одно из самых пронзительных стихотворений, написанное военкором подполковником Александром Твардовским.
На заставке: фото Семена Фридлянда
Горькая правда о войне — воспоминания ветеранов ВОВ
В 2009 году мне довелось участвовать в одном проекте. К очередному Дню победы должен был появиться аудиодиск с записями воспоминаний ветеранов войны. Это происходило по инициативе префектуры ЮВО Москвы. В те дни я встречалась с пожилыми людьми и записывала их воспоминания. Беседы состоялись не только с непосредственными участниками сражений, но и с тружениками тыла, медсёстрами госпиталей, блокадниками.
После седьмого класса школы они шли учиться в военные училища, а лишь к 1944 году попадали на фронт или оставались в тылу работать. Но были и те, кто о войне знал не понаслышке. Степень причастности этих людей к военным событиям довольно разная. Кто-то рисковал жизнью в самом пекле боёв, кто-то выхаживал раненых, кто-то вытачивал патроны на заводе, кто-то занимался бумажной работой в тыловом штабе, а кто-то сидел на почте и цензурировал письма солдат… Все эти люди и их воспоминания — часть нашей истории, а точнее, одного из самых горьких ее периодов.
Судьба того аудиодиска мне так и не стала известна, но записанные воспоминания ветеранов не были нигде опубликованы. А это несправедливо, голос очевидцев войны не должен затеряться и смолкнуть. Здесь небольшая подборка.
Щанникова Тамара Викторовна, медсестра в госпитале в Москве:
«Обычно раненых… а назывались они так: ран-больной — привозили ночью, чтобы соседние дома спали спокойно, если бомбёжка позволяла. Но сколько и каких раненых привезли, никто не должен был знать.
Санитаров не было, разгружать эту машину приходили две сестры. И вот мы вдвоем на носилках… Поверьте мне, ран-больной весил достаточно, потому что был в полном обмундировании, в шинели, если ноги были, то в сапогах, под головой вещмешок, шапка. У одного даже была гитара. Значит, он такой активный товарищ. Я говорю:
— Этого ко мне на первый этаж.
А у другого под головой был учебник по истории средних веков, мой коллега! Я должна была в это время изучать историю средних веков в Ашхабаде. Ну, в общем, поверьте, что это было достаточно тяжело для двух девчонок, особенно если надо было на второй этаж нести. А лифтов не было.
Однажды привезли целую палату узбеков, человек двадцать. У этих узбеков были ампутированы кисти рук и стопы ног — отморозили. Московская зима-то для привыкших к теплу узбеков была чем? Я уж не знаю, как они были обуты, как они были одеты, но отморозили они кисти рук и стопы ног».
Седов Виктор Дмитриевич, 1924 г. р., командир взвода, Ленинградский фронт:
«В 1942 году, когда эвакуировали ленинградцев, смельчаки с эшелона выскочили на вокзальную площадь. И там женщины узнали, что они из Ленинграда.
— Сынки, милые! Мальчики, ешьте, пейте все!
Им отдавали огурцы, помидоры, капусту, картошку, котлеты, варенец. Вот это был патриотизм. Бабки, которые копейкой дорожили, узнали, что они ленинградцы, выложили им все, что было. И денег не надо, лишь бы только их накормить.
На войне до тех пор, пока тебя не ранили, ты ничего не боишься. Тебе море по колено. Конечно, прятались, окапывались, но не было страха, что тебя убьют. А когда первый раз ранят, то начинаешь беспокоиться за свою судьбу, жизнь и относиться к этому осторожно. Но это не спасает в другой раз от всех неприятностей, которые могут случиться на войне. Я трижды ранен. Легко. В Прибалтике ранило и в Восточной Пруссии. Последний раз 24 апреля 1945 года в бедро левое был ранен, не хотел уходить из строя. Старшина говорит:
— Ты что?! Война кончится скоро, недели через две, а ты хочешь остаться?! Иди в госпиталь, раз тебе положено!
Послушался я старшину, жив остался».
Филиппова Татьяна Алексеевна, 1920 г. р, блокадница, работала секретарем в штабе 4-ой Гвардейской армии:
«Война — страшное дело. Кто говорит, что там не страшно, это, конечно, неправда. Бадаевские склады горели, я жила на Мойке. Все соседи, у кого силы были, ездили на эти Бадаевские склады. Горело все: и сахар, и мука, и продукты. Там прямо землю рыли, а дома кипятили не то кофе, не то суп. В общем, кто как мог. Но это не самое страшное. Самое страшное, что человек теряет образ человеческий в голоде в этом. Рядом была соседка, которая прятала топор от своего мужа. Потому что у них двое детей было. Вот это кошмар. Такие случаи были. Потом делали котлеты и сами ели или продавали. Это ужасно, конечно».
Лукашин Владимир Васильевич, минометчик:
«И вот этот бой такой был, что немцы нас всю ночь стреляли. Плохо было то, что винтовки-то нам выдали, а саперных лопаток не дали, касок не дали. Дали только по три гранаты. Мы даже обороняться толком не могли. После боя немецкой артиллерии била наша артиллерия, которая стояла сзади нас. Должен сказать, что артиллеристы наши молодцы. Мы были всего в каких-нибудь 150 метрах от немцев, а наша артиллерия точно била по этим целям. Когда я очнулся, слышу команду:
— Четвертая рота, ко мне!
Я бужу своего товарища, а он мертвый. Оглядываюсь кругом — одни мертвецы. А сержант кричит:
— Четвертая рота! Четвертая рота! Ко мне!
Я схватил простой пулемет, коробку с патронами и побежал в строй. А сержант кричит:
— В колонну по одному — становись! По порядку номеров рассчитайтесь!
Это военные команды. А последний кричит:
Это первая ночь была».
Бурцев Владимир Михайлович, в 1941 году закончил 7 класс школы, в 44-ом мобилизовался:
«Я воевал мало, полгода. Из них два месяца я провел в госпиталях, был три раза ранен. Мы молодые ещё были, кушать хотелось. Давали 800 г хлеба, и я тут же вечером все съедал. Однажды я видел, как у одного солдата, он из Средней Азии, пробило пулей живот. Живот полный — каша там у него была, а пуля или осколок разрывают, если желудок или кишечник полные. Как бочка с водой, если стрельнуть, её разрывает. В общем, я старался все съесть сразу, чтобы в бой идти с пустым желудком».
Антыпко Белла Ефимовна, санинструктор в медсанбате 30-ой армии Западного фронта:
«Пока шло наступление на Москву в январе 1942 года, мы стояли в Погорелом Городище (Тверской области). И несмотря на то, что был повсюду знак — красный крест, нас все время бомбили. Когда началось наступление на Ржев, мы знали: как наступление — к нам целый поток раненых идёт. Потом день, два вроде поспокойнее. Потом опять валом идут. И негде было укладывать их. Меня поразило, какая была вонь в этих палатах госпитальных. Это не палаты были, а полуразрушенные избы, в лучшем случае с крышей. Вначале клали на какие-то койки, потом набивали соломой матрасы, а подушки сеном. А потом уже некуда было класть, и мы стелили на пол сено и солому, что там в деревне было. Сверху плащ-палатки, на них простыни и уже клали раненых, сколько получится. Никто не протестовал. Вот представьте себе — изба, окошечки маленькие, проветрить нельзя, ты простудишь тех, которые лежат на полу, а лежат 50-60 мужчин. Молоденькие мальчики по 18-20 лет. Нам не хватало материалов перевязочных, мы бинты стирали, гладили, сушили».
Константинов Владимир Ефимович, связной:
— Константинов! Куда тебя черт принес?! Отводить надо! Ждём сигнал!
А в это время снайпер ему в челюсть, видно, разрывная пуля, у него челюсть буквально отвисла, кровь… А я не знаю, что с моей ногой. Отбило ли ее полностью? Что делать? Я ощупал, нога вроде цела. Штаны ватные крови не пропускают. Двигаться не могу, но думаю — нога цела. Если ползти туда к командиру роты, там вдвоем не разместишься. Долго сидеть тоже нельзя, погибнем. Обратно пойти тоже нельзя, снайпер явно держит меня на мушке. Я вынужден был минут 15 выдержать, потом лопаткой срыл немножко, чтобы мне можно было оттуда вылезти из ячейки этой плавно, не так резко. Хорошо, что там картофельное поле вело к нашим траншеям. И я мимо картофельной ботвы подползаю к нашим, выскакивает мой друг, хватает меня, и мы сваливаемся в траншею. Меня на перевязку и в госпиталь».
Маликова Елена Ивановна:
«Я работала на Лубянке какое-то время, а в 43-м по комсомольской визе меня направили в Прибалтику. Там как раз началось освобождение Прибалтики. Цензура была военная, письма читали. Немного в цензуре поработала. Длинный стол, сидели на почте, большая комната. Мы — женщины все молодые — читали письма, груды писем: треугольники, конверты. Надо было смотреть, чтобы не было никаких тайн. Если мы что-нибудь находили, значит, надо было вычёркивать. Ну, например, пишет он: я нахожусь там-то. Это надо было срочно вычеркнуть. Были очень интересные письма от известных даже людей. Это же с фронта письма шли. Писали, что все у них хорошо, патриотические были письма. Общий настрой, что война долго не продлится, а скоро кончится, встретимся, победа будет за нами».
Москалёв Василий Федорович, 1916 г. р., лётчик, командир эскадрильи:
«13 мая 1942 года командир вызвал, нас построили и сказали:
— Наша задача сейчас обязательно прорваться дальше в крымскую землю и точно определить, где ж его основные силы. Они жмут нас, со стороны Севастополя идут войска, и большая возможность нас зажать.
— Ты полетишь. Возьми человека с собой, который тебе помогал бы в бою.
У меня был один парень, его звали Андрей. Я сказал:
— Андрюша, сумеем мы с тобой выдержать этот экзамен? Нужно на высоте 1,5 — 2 тысячи метров пройти большую часть крымской земли, и там, может быть, примем воздушный бой и решим, что будем командованию докладывать, когда прилетим.
Мы были рады, что нам доверяют. И когда уже аэродром остался в стороне, мы пошли туда, где больше всего можно было ожидать противника. Мы переговаривались между собой, я обратил внимание, что мой один лётчик, отставший от нас, крыльями покачал, будто бы просил внимание мое. А когда я посмотрел в сторону, увидел рядом Мессершмитт. Немецкий самый страшный самолёт. И он уже приготовился сбить меня. Ему деваться некуда, он между мной и другим самолётом вышел вперёд. Я увидел лицо лётчика, настолько близко, он улыбался…
Я крылом хотел его ударить, если мы погибнем, но мы спасём других. А он моментально раз и ручку на себя! И получается — я внизу, а он вверху. Я тогда немножко отстаю, только я приготовился… А он опять берет в прицел другую машину. Я подумал, ну что делать? А он смотрит на меня и улыбается. А меня зло взяло и смешно. Я вот так ему кулаком погрозил, а он рядом и ещё больше смеётся. Он же знает, что он сейчас начнёт того убивать и до меня очередь дойдет. Как выйти из положения? Как помочь? Если я проскочу, окажусь у него под прицелом. И он в это время открывает огонь, и самолёт, который вышел вперёд, взрывается в воздухе. Андрей погиб.
Взрывная волна настолько самолёт мой бросила, я оказался выше него в стороне. Переворачиваюсь, выхожу, а он сзади за мной. Я оказался опять у него под прицелом. Я шел низко от земли и на высоте примерно 50 метров стал выводить машину, он дал очередь по мне. Я слышал, как самолёт задрожал, и потом у приборов всех стали стрелки падать в разные стороны, водосистема была поражена. Вода для охлаждения мотора стала уходить, скорость снизилась, и я подумал, что если в течение пяти минут не сяду, самолет загорится у меня. Маслосистема вышла из строя и водосистема. Т. е. то, чем питается мотор, — отрезано. Вся эта история на меня сыпется, вода льется, очки я сбросил. И не обращая внимания, что за мной гонятся, произвожу посадку. Оказался наш аэродром запасной, около Керчи. И я благополучно сел. Ну и потом я уже вернулся пешком, пробираясь по этим дорогам. С этого боя я один вернулся».
Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
«Мы боялись, что войны не хватит для нас»: истории людей, прошедших все круги ада
Нашему поколению сложно воспринимать Великую Отечественную войну. Отчасти из-за того, что, как бы банально это ни звучало, нас там не было. Отчасти из-за того, что сегодня война стала неким бэкграундом русского народа; историями из книжек и фильмов, которые где-то на подсознательном уровне существуют, скорее, как данность, нежели как реально произошедшее событие.
Возможно, именно поэтому большинство из нас думает о людях, принёсших себя в жертву во имя мира, только в преддверии 9 мая. Но стоит посмотреть в глаза тех, кто ещё жив и кто ещё помнит, как мозг Венским копьём пронзает кристально чистое понимание того, что всё это произошло на самом деле. Мы пообщались с ветеранами, прошедшими семь кругов ада, о том, какой они запомнили свою войну.
Я очень хорошо помню 22 июня. Был футбольный матч. Играли юношеские сборные двух шахт. В три часа он начался, а в четыре часа нам объявили, что началась война. Мы, конечно, не поверили, потому что перед этим передавали сообщение ТАСС о подписании пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом. Только когда уже шли домой, увидели, что люди стоят кучками. Мужики храбрятся, женщины плачут.
Мы сразу побежали в военкомат, но с нами не стали разговаривать, и без нас забот хватало. Потом мы пошли в горком комсомола, написали добровольное заявление. Боялись, что войны не хватит для нас.
2 ноября приняли присягу, обмундирование нам выдали. И где-то числа 10-12 поехали на фронт. Уже в пути, за Уралом, получили винтовки, двадцать патронов и две гранаты. Прибыли мы под Ленинград, в город Тихон, его заняли немцы. Там должно было проходить второе кольцо блокады, но мы выбили, освободили этот город. Меня ранили.
Потом наш батальон перебросили в Заполярье, на Кольский полуостров. Через мурманский порт нам поступала провизия и какие-то запасы – помогали англичане. Мы же прикрывали Кандалакшу. В итоге получилось так, что через месяца полтора мы все заболели цингой. Нас подлечили, но в скором времени после этого наш батальон расформировали, и я стал миномётчиком.
Во время разведки боем меня снова ранили, но на этот раз ранение было осколочным. Я попал в госпиталь, провёл в нём около месяца. Когда выписали, уже зима началась и снова стали формировать лыжные батальоны. В ноябре нас повезли к Мурманску, где пересадили на катера и отправили в северную Норвегию. Там мы взорвали склад горюче-смазочных материалов, но потом за нами катер не пришёл. Не было ни карты, ни компаса, ни лыж, а уже снег везде лежал. И мы оттуда добирались пешком. Сначала дошли до Финляндии, а потом до нашей заставы. Примерно километров четыреста прошли, обморозились все. Документов, конечно, ни у кого не было, нас стал допрашивать СМЕРШ. К счастью, всё разрешилось. Таким я помню начало войны.
Потом, когда мы на севере закончили, Киркинес освободили, я к тому времени снова был в миномётном полку, но уже на 120-мм миномётах, нас отправили в Гороховецкие лагеря. Там формировали 31 артиллерийскую дивизию прорыва. Наш полк вошёл в состав этой дивизии.
В конце декабря – начале января мы приехали в Польшу, на Сандомирский плацдарм. Я был на 1-ом Украинском фронте, мы освободили Краков сразу, как только начали наступление. И Освенцим. Я там видел… Их даже людьми назвать нельзя, это просто бродячие скелеты. Мы после этого, наверное, неделю не имели горячего питания, потому что все наши кухни остались, чтобы подкармливать пленных кашей или чем-то ещё.
Где-то в феврале мы уже Одер форсировали. Берлин тогда освобождал 1-й Белорусский фронт, мы подошли с юга, в Потсдаме встретились со 2-ым Белорусским фронтом. Вышли на Эльбу, встретили американцев. Потом брали Дрезден и в Праге закончили войну, 9 мая.
Когда началась война, мне даже 16 лет ещё не было. Я учился в училище на тот момент, а летом нас послали на уборку урожая. Там я заболел, отправили обратно, я долго пролежал в больнице. Обратно везти не стали, потому что далеко, в итоге меня устроили в ВРЗ подмастерьем заливщика подшипников. Пришла повестка в армию, и я отправился на фронт.
Когда началась война, меня сразу же отправили на роковские курсы медсестёр от Красного Креста, после которых призвали в армию. Молодых медсестёр со всей кемеровской области собрали вместе и посадили в поезд до Дальнего Востока. На остановках мы ели хлеб и пили кипяток с сахаром – вся наша пища.
Поезд доехал почти до российско-китайской границы и уже там нас отправили служить в Волочаевскую танковую бригаду. Потом в Ворошилове сформировали маршевые роты, и я попала туда.
В 1943 году меня отправили в Спасск-Дальний, помогать в эвакогоспитале. Каждый день к нам поступали раненые, которых необходимо было обмыть и переодеть, найти место в палате или отвезти в операционную. Часто не хватало крови для переливания, тогда мы сами становились донорами. Порой уставали настолько, что не хватало сил дойти до казармы, оставались спать в госпитале.
Я постоянно писала письма на фронт, рвалась на передовую. Как-то ко мне подошёл начальник эвакогоспиталя и сказал: «Наташа, у тебя же брат на фронте, вот напиши ему, пусть поговорит со своим командиром, она вас вызовет к себе, так будет быстрее и проще, чем бесконечные письма писать». Я не поняла, что он просто пошутил таким образом, и правда написала письмо, а потом долго ждала ответа.
Мы очень радовались, когда в мае пришло сообщение об окончании войны, думали о том, как бы поскорее вернуться домой. Но возвращение отложилось почти на год, потому что в августе Советский Союз объявил войну с Японией, и мы были вынуждены остаться в госпитале.
Я закончила семь классов в то время, поступила в горный техникум, но и года не прошло, как началась война. Пришлось идти работать, потому что семья большая была, тяжело приходилось. Нас обязали пройти курсы санитарок. В конце концов, в один из дней, когда я пришла на работу, мне сказали, что нужно идти в горвоенкомат. Отправили в Асино, но там я недолго задержалась, нас быстро перебазировали в Орехово-Зуево.
Потом мы попали в Москву, в пролетарские лагеря. Там мы пробыли дней десять и как-то ночью нас подняли и приказали двигаться вперёд. Мы даже не знали, куда, и в итоге дошли до Сталинграда. Я получила закрытый перелом руки. Когда там закончили, нас отправили в Воронежскую область подлечиться и немного отдохнуть, а после перевели в 197-й артиллерийский полк. И как раз мы попали на Курскую дугу. Там нам помогали американцы – приезжали их «Студебеккеры» и «Виллисы», привозили питание в банках.
В 1942 году меня призвали в армию, хотя мне на тот момент я ещё не был совершеннолетним. Нас собрали и отправили в Юргу, где началась военная подготовка. И только осенью сформировали эшелон. Мы поехали на Калининский фронт – держать оборону северо-западнее Москвы.
Тогда было особенно тяжёлое время: шли битвы под Сталинградом, а Белоруссию, Украину, Прибалтику и ещё несколько областей временно захватили немцы. Их авиация начала бомбить наш эшелон ещё при выгрузке. До передовой пришлось идти пешком, хотя были лошади, но они тащили пушки и 120-мм миномёты. В общем, наш 121-й стрелковый полк сразу угодил в полымя, и в одном из наступательных боёв меня ранили.
Плохо помню, как это произошло. Мы шли в атаку, рядом разрывались снаряды, повсюду выстрелы. Меня контузило, я даже не сразу почувствовал боль. В госпиталь меня доставили с обмороженными ногами – наверное, долго лежал в снегу, пока меня не нашли. В эвакогоспитале меня признали непригодным для дальнейшей службы и отправили домой. Это было в апреле 1943 года.
Я с самого юношества хотел защищать родину, как и мой отец, который прошёл Первую мировую войну. Учился я в Баку, там и жил, и уже в 1940-ом собрался поступать в Бакинское зенитно-артиллерийское училище. На тот момент у меня имелся аттестат зрелости, документы, подтверждающие, что я «Ворошиловский стрелок» и «Ворошиловский всадник», значки ГТО и Красного Креста. Но внезапно для всех началась война и через два месяца после этого я выпустился из училища по ускоренной программе в звании лейтенанта.
Под Москвой я командовал огневым взводом, в моём распоряжении были боевые расчёты трёх 76-мм пушек. Туда мы прибыли в сентябре 1941-го, нам определили огневой рубеж в сорока километрах от столицы. Нам нельзя было допустить прорыва немецких самолётов и танков к городу, а они всё шли и шли круглыми сутками. Но мы справились и не отступили ни шагу назад.
В июле 1942 года поступил приказ отозвать всех военнослужащих немецкой национальности и отправить их в спецпоселение. Мы не знали, что это за приказ, и до последнего наделись, что нас везут на Дальний Восток, чтобы воевать с Квантунской армией Японии. Однако нас привезли в Новосибирск, сняли погоны и сказали, что теперь будем работать в тылу. Мы сильно возмущались, но нас быстро одёрнули, сказав, что приказы выполняются, а не обсуждаются. И меня отправили в геологоразведочную партию искать бокситы. Так до конца войны я больше и не увидел фронта.
Я закончил курсы полковых разведчиков. У меня, в общем-то, всю войну и была только эта профессия. В 1943 году получил первый орден Красной Звезды, который у меня недавно украли. Помню, как ночью на лодке переплывал речку Припять, взял сумку, прикинулся белорусским мальчиком и пошёл побираться. Мне ж и 18 тогда не исполнилось, молодо выглядел. На самом деле нужно было разведать расположение немецких частей, но главная цель, за которой я приплыл, – взять «языка». И вот перерезал я линию связи, сижу, жду. Проверять, что случилось, пришёл всего один немец, ну я его взял в плен, бегом обратно к лодке и сразу к своим.
Это то, чем я занимался всю войну, ведь я состоял в группе захвата. В то время, как другие разведчики отвлекали внимание, мы выполняли основные задачи. Я получил много медалей и орденов, а командир войсковой части отправил моей матери письмо с фронта, где написал, что «мы гордимся вашим сыном. Он является одним из лучших бойцов, отлично сражается с немецкими поработителями. Лично сам уничтожил 34 гитлеровца».
Потом была Польша, там меня ранили в ногу. Наш разведвзод переплавился через Вислу, ворвался в немецкие окопы: многих убили, а одного взяли в плен. По нам открыли артиллерийский огонь, троих ранили.
После госпиталя меня перекинули в Германию. Как раз в тот момент, когда форсировали Одер. Победу я встретил в пригороде Берлина.
Но, к счастью, о ветеранах сегодня не забывают. И речь идёт не о ежегодных парадах на 9 мая, а о некоммерческих организациях, которые поздравляют людей, прошедших через ужасы войны, не потому что так надо, а просто от чистого сердца. Одна из таких – это «Клуб УАЗ Патриот Кузбасс», в этом году решивший поучаствовать в акции «Дорогами войны», чтобы показать: молодое поколение помнит подвиг дедов и чтит память павших.
В Кемеровской области подобная акция проводится впервые, а её участники до Дня Победы планируют успеть объехать весь Кузбасс. И они преуспевают в своей затее: большинство ветеранов уже получили поздравления и подарки.
– Мы счастливы такой возможности: поздравить ветеранов войны, тружеников тыла и оказать им посильную помощь. Для нас участие в акции – это возможность познакомиться с легендарными людьми, послушать истории о войне из первых уст, рассказать о Победе нашим детям! – говорит один из организаторов Екатерина Напольских.
И это далеко не последний год, когда в Кузбассе проходит такая акция. Присоединиться к ней может каждый желающий. Точнее, даже не к ней, а в принципе сделать что-то подобное: напрмиер, навестить своих бабушек и дедушек или знакомых ветеранов, чтобы поговорить с ними хотя бы часик. Ведь, как мы выяснили, внимание дороже любых подарков.