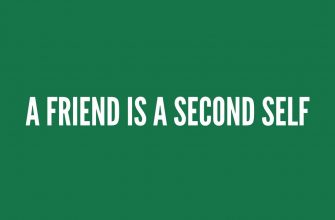Сборник рассказов «Темные аллеи».
| Часть I Темные аллеи Кавказ Баллада Степа Муза Поздний час | Часть II Руся Красавица Дурочка Антигона Смарагд Гость Волки Визитные карточки Зойка и Валерия Таня В Париже Галя Ганская Генрих Натали | Часть III В одной знакомой улице Речной трактир Кума Начало «Дубки» Барышня Клара «Мадрид» Второй кофейник Железная Шерсть Холодная осень Пароход «Саратов» Ворон Камарг Сто рупий Месть Качели Чистый понедельник Часовня Весной, в Иудее Ночлег |
Тёмные аллеи – сборник рассказов о любви Ивана Алексеевича Бунина.
Над «Тёмными аллеями» Бунин работал в эмиграции с 1937 по 1945 гг. Большинство рассказов было написано во время Второй мировой войны на юге Франции (г. Грас), в очень стеснённых условиях вишистского режима.
Позже, в 1953 году, когда Иван Бунин добавил к своему сборнику два рассказа, писатель стал считать «Тёмные аллеи» своим лучшим произведением.
Произведение входит в программу изучения литературы в российских общеобразовательных школах.
Содержание сборника
Часть I
Тёмные аллеи (20 октября 1938) опубл. в изд. «Новая земля», Нью-Йорк, 1943 год.
Повесть (как и весь сборник) получила своё название от двух строк стихотворения Николая Огарёва «Обыкновенная повесть»: «Кругом шиповник алый цвел / Стояла тёмных лип аллея…». «Шиповник» — альтернативное название сборника, которому сам Бунин отдавал предпочтение.
Кавказ (13 ноября 1937) опубл. в газ. «Последние новости», Париж, 1937, № 6077, 14 ноября.
Бунин говорит в заметках «Происхождение моих рассказов»: «Написал этот рассказ, вспомнив, как однажды — лет сорок тому назад — уезжал из Москвы по Брянской дороге с женой одного офицера, с которой был в связи и которую он провожал на Брянском вокзале в Киев, к ее родителям, не зная, что я уже сижу в поезде, еду с ней до Тихоновой пустыни. Это была очаровательная, веселая, молоденькая, хорошенькая женщина с ямочками на щеках при улыбке, решительно ничем не похожая на ту, что написана в „Кавказе“, сплошь, кроме воспоминания о вокзале, выдуманном; на Кавказском побережье я тоже никогда не был, — был только в Новороссийске и в Батуме, видел прочее побережье только с парохода». «А муж ее вполне мог застрелиться именно так, как в рассказе, если бы узнал про ее измену».
Баллада (3 февраля 1938) опубл. в газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6175, 20 февраля.
В заметках «Происхождение моих рассказов» Бунин пишет, что из его «писаний» некоторые ему «особенно дороги, кажутся особенно восхитительны — и вот „Баллада“ в числе таких. А меж тем написать его, как и многие другие рассказы… побудила меня нужда в деньгах… Бог дал быстро выдумать нечто совершенно прекрасное (с вымышленной странницей Машенькой, главной прелестью рассказа, с ее дивным ночным бдением, дивной речью)» (Бунин, т. 9, с. 371—372). По словам Бунина, «„Баллада“ выдумана вся, от слова до слова — и сразу, в один час: как-то проснулся в Париже с мыслью, что непременно надо что-нибудь в „Последние новости“, должен там; выпил кофе, сел за стол — и вдруг ни с того ни с сего стал писать, сам не зная, что будет дальше. А рассказ чудесный».
Стёпа (5 октября 1938) опубл. в газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6419, 23 октября.
О возникновении замысла этого рассказа Бунин писал: «Представилось почему-то, что еду на беговых дрожках от имения брата Евгения (на границе Тульской губернии) за семь верст на станцию „Боборыкино“ в проливной дождь. Затем — сумерки, постоялый двор купца Алисова (молодого и бездетного) и какой-то человек, остановившийся возле этого постоялого двора и на крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное как-то само собой сложилось — неожиданно». Бунин говорит, что ему хотелось как-то кончить «это неожиданное страшное и блаженное событие в полудетской жизни… милой, жалкой девочки, столь чудесно и тоже совсем неожиданно выдуманной, но чувствовал, что непременно надо кончить как-то хорошо, пронзительно, — и вдруг, не думая, посчастливилось кончить именно так».
Муза (17 октября 1938) опубл. в газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6426, 30 октября.
Бунин писал: «Верстах в трех от нашей усадьбы, в сельце Озерки, в Елецком уезде, при большой дороге в Елец, было имение, принадлежавшее когда-то моей матери, потом помещику Логофету, а в моей юности его нищему сыну, пьянице, рыжему, тощему. Я изредка бывал у него, был однажды лунным зимним вечером, в доме, освещенном только луною, почему-то, — это всегда бывает неизвестно почему, — вспоминал иногда какой-то момент этого вечера и все хотел что-то присочинить к нему, вставить его в какой-то рассказ, который все не выдумывался. Все это вспомнилось мне однажды, в конце октября тридцать восьмого года в Beausoleil (над Монте-Карло), и вдруг пришел в голову и сюжет „Музы“ — как и почему, совершенно не понимаю: тут тоже все сплошь выдумано, — кроме того, что я когда-то часто и подолгу жил в Москве на Арбате в номерах „Столица“, а в юности был в зимний вечер у Логофета». «Вспомнилась гостиница „Столица“ на Арбате, в которой я не раз и подолгу жил, неожиданно заменил в ней себя каким-то человеком, вздумавшим стать художником, и никак не могу вспомнить, почему, откуда взялась эта странная Муза Граф, — никогда подобной не встречал. Жизнь художника на даче, подмосковные дни и ночи там — некоторое подобие (гораздо более поэтическое действительности) того недолгого времени, когда я гостил на даче писателя Телешова». «А Завистовский тоже выдуман, — не выдумана только его усадьба, на самом деле принадлежавшая когда-то нашей матери…».
Поздний час (19 октября 1938) опубл. в газ. «Последние новости», Париж, 1938, № 6467, 11 декабря.
Сюжет рассказа основан на воспоминании Бунина о встречах с В. В. Пащенко в городе Ельце. Отдельные подробности сюжета совпадают с фактами биографии Бунина. «Поздний час» написан после окончательного просмотра того, что я так нехорошо назвал «Ликой». Этот рассказ Бунин считал одним из лучших в книге «Темные аллеи» из числа тех, что были написаны до мая 1940 года; он писал: «Перечитал свои рассказы для новой книги. Лучше всего „Поздний час“, потом, может быть, „Степа“, „Баллада“».
Часть II
Руся (27 сентября 1940) опубл. в «Новый журнал», Нью-Йорк, 1942, № 1, апрель-май.
Красавица (28 сентября 1940) опубл. в журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1946, № 26, апрель-май.
Первоначальное заглавие — «Мамин сундук».
Дурочка (28 сентября 1940) опубл. в журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1946, № 26, апрель-май.
Первоначальное заглавие — «По улице мостовой».
Антигона (2 октября 1940) опубл. в сборнике «Тёмные аллеи», Париж, 1946.
Смарагд (3 октября 1940) опубл. в сборнике «Тёмные аллеи», Париж, 1946.
Гость (3 октября 1940) опубл. в сборнике «Тёмные аллеи», Париж, 1946.
В рукописи рассказ озаглавлен «Паша» — по имени героини, которая в окончательной редакции текста именуется Сашей. В рукописи есть слова, исключенные потом автором из текста, — Адам Адамыч говорит: «А, да ты телом хоть куда! Даже розовая, нечто, знаешь, от фламандской школы» — и т. д. В окончательной редакции рассказа он называет ее «фламандской Евой». Прототипом Адама Адамыча является Б. П. Шелихов, редактор газеты «Орловский вестник», в которой в молодости сотрудничал Бунин.
Волки (7 октября 1940) опубл. в газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1942, № 10658, 26 апреля.
Визитные карточки (5 октября 1940) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
Бунин называл этот рассказ «пронзительным». Он вспоминал: «В июне 1914 года мы с братом Юлием плыли по Волге от Саратова до Ярославля. И вот в первый же вечер, после ужина, когда брат гулял по палубе, а я сидел под окном нашей каюты, ко мне подошла какая-то милая, смущенная и невзрачная, небольшая, худенькая, еще довольно молодая, но уже увядшая женщина и сказала, что она узнала по портретам, кто я, что „так счастлива“ видеть меня. Я попросил ее присесть, стал расспрашивать, кто она, откуда, — не помню, что она отвечала, — что-то очень незначительное, уездное, — стал невольно и, конечно, без всякой цели любезничать с ней, но тут подошел брат, молча и неприязненно посмотрел на нас, она смутилась еще больше, торопливо попрощалась со мной и ушла, а брат сказал мне: „Слышал, как ты распускал перья перед ней, — противно!“ Все это я почему-то вспомнил однажды четыре года тому назад осенью и тотчас…»
Зойка и Валерия (13 октября 1940) опубл. в «Русский сборник», Париж, 1946.
В автографе есть строки, не вошедшие в окончательный текст, относящиеся к Зойке: «И она была совершенно лишена стыдливости — или скорее с инстинктивной хитростью делала вид, что не имеет ее». О Титове в автографе сказано: «…так был он самоуверен, самодоволен, высок, красив, элегантно наряден, блестящ бельем и золотым пенсне».
Таня (22 октября 1940) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1943.
В Париже (26 октября 1940) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1943.
Галя Ганская (28 октября 1940) опубл. в «Новый журнал», Нью-Йорк, 1946, № 13
Бунин придал герою рассказа некоторые черты своего друга, художника и писателя П. А. Нилуса (1869—1943); история Гали Ганской вымышленная. По поводу ханжеских придирок к рассказу Бунин писал 10 мая 1946 года М. А. Алданову: «„Галя“ без „эротики“ никуда не годится (…) Ах, уж эти болваны и лицемеры».
Натали (4 апреля 1941) опубл. в «Новый журнал», Нью-Йорк, 1942, № 2
О происхождении рассказа Бунин писал: «Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, который ездит и скупает „мертвые души“, и так не выдумать ли мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другое…». В дневнике Бунин писал о «Натали»: «Никто не хочет верить, что в ней все от слова до слова выдумано, как и во всех почти моих рассказах, и прежних и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь — как все это выдумалось — ну, хоть в „Натали“. И кажется, что уж больше не смогу так выдумывать и писать» (запись в дневнике 20 сентября 1942 г.).
Часть III
В одной знакомой улице (25 мая 1944) опубл. в газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 26, 9 ноября.
В этой газете целая полоса была полностью посвящена 75-летию Ивана Бунина. В рассказе Бунин цитирует (неточно) отрывки из стихотворения Я. П. Полонского «Затворница».
Речной трактир (27 октября 1943) опубл. в «Новый журнал», Нью-Йорк, 1945, № 1
Издание этого рассказа выпущено отдельной брошюрой в художественном оформлении М. В. Добужинского (1875—1957), в количестве одной тысячи нумерованных экземпляров. Бунин писал М. А. Алданову из Парижа 11 октября 1945 года: «За „роскошное“ издание „Речного трактира“ немножко стыжусь — в нем кое-что неплохо насчет Волги, вообще насчет „святой Руси“, но ведь все-таки это не лучший „перл“ в моей „короне“, хотя как раз этот „трактир“ принес мне много похвал (я читал его тут многим)». Оценка критики была иной. М. А. Алданов писал Бунину 26 декабря 1945 года о рассказах «Таня», «Натали», «Генрих» и др.: «…все решительно превосходно, никто так не напишет. Описание Волги в „Речном трактире“ и трактира — верх совершенства».
Кума (25 сентября 1943) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
Начало (23 октября 1943) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
«Дубки» (30 октября 1943) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
Барышня Клара (17 апреля 1944) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
«Мадрид» (26 апреля 1944) опубл. в журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1945, № 21.
Бунин соглашался с теми, кто называл «Мадрид» и «Второй кофейник» «человеколюбивыми рассказами», и говорил при этом: «…пиша и про девочку в „Мадриде“, и про „Катьку, молчать!“, я то и дело умиленно смеялся, чувствовал нечто вроде приступа нежных, радостных слез» Об этих рассказах Бунин писал 1 октября 1945 г. С. Ю. Прегель: «…ведь и тут такая прелесть русской женской души; оба эти рассказа меня самого до сих пор трогают…». О них Бунин также писал М. А. Алданову 3 сентября 1945 г.: «…они так чисты, простодушны, „героини“ их, по-моему, просто очаровательны».
Второй кофейник (30 апреля 1944) опубл. в журн. «Новоселье», Нью-Йорк, 1945, № 21.
В «Происхождении моих рассказов» Бунин писал: «Сплошь выдумано. Не раз думал написать нечто вроде „Записок художника“, в воображении мелькало то то, то другое, отрывочно. Мелькнуло как-то то, из чего выдумался „Кофейник“». В рассказе упоминаются реальные лица: русские художники — Г. Ф. Ярцев (1858—1918), К. А. Коровин (1861—1939), С. П. Кувшинникова (1847—1907), Ф. А. Малявин (1869—1940) — и журналист, литературный и театральный критик С. С. Голоушев (псевдоним Глаголь; 1855—1920).
Железная Шерсть (1 мая 1944) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
Рассказ основан на фольклоре. В русских народных сказках есть мотивы, напоминающие сюжет бунинского рассказа. В сказке «Звериное молоко» рассказывается о медведе железная шерсть, злом преследователе людей.
Холодная осень (3 мая 1944) опубл. в газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 1, 18 мая.
«Какая холодная осень!» — Бунин неточно приводит первые четыре строки из стихотворения без заглавия А. А. Фета. В рассказе отразилось впечатление, которое произвело на Бунина известие об убийстве Фердинанда. Бунин записал в дневнике 1 января 1945 года: «Очень самого трогает „Холодная осень“».
Пароход «Саратов» (16 мая 1944) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
Бунин написал рассказ за один вечер. Он отметил в дневнике 14 мая 1944 года: «Два с половиною часа ночи (значит, уже не четырнадцатое, а пятнадцатое мая). За вечер написал „Пароход Саратов“».
Ворон (18 мая 1944) опубл. в газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 33, 28 декабря.
Советский критик А. Тарасенков в предисловии к избранным произведениям Бунина (ГИХЛ, 1956, с. 20) упоминал этот рассказ среди лучших работ написанных Буниным в эмиграции. Позже Томас Брэдли в предисловии к изданию «Господин из Сан-Франциско и другие рассказы» (1963, Нью-Йорк, Вашингтон, Square Press, XIX, с. 264) утверждал, что лучшими рассказами писателя в 1930-40-х годах являются «Тёмные аллеи» и «Ворон».
Камарг (23 мая 1944) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
Сто рупий (24 мая 1944) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
Месть (13 июня 1944) опубл. в «Новый журнал», Нью-Йорк, 1946, № 12
Качели (10 апреля 1945) опубл. в газ. «Русские новости», Париж, 1945, № 26, 9 ноября
Чистый понедельник (12 мая 1944) опубл. в «Новый журнал», Нью-Йорк, 1945, № 10
Бунин писал в дневнике с 8 на 9 мая 1944: «Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать несколько страниц „Чистого понедельника“. Погасил свет, открыл окно проветрить комнату — ни малейшего движения воздуха; полнолуние, вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте нежный розовый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где щелканье первых соловьев… Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и работе!». В. Н. Муромцева-Бунина писала, что Иван Алексеевич считал, что в книге «Тёмные аллеи» «каждый рассказ написан «своим ритмом», в своем ключе, а про «Чистый понедельник» он написал на обрывке бумаги в одну из своих бессонных ночей, цитирую по памяти: «Благодарю бога, что он дал мне возможность написать „Чистый понедельник“»».
Часовня (2 июля 1944) опубл. в сборнике «Темные аллеи», Париж, 1946.
Весной, в Иудее (1946) опубл. в газ. «Русские новости», Париж, 1946, № 49, 19 апреля.
Этот рассказ дал свое название последнему прижизненному сборнику Бунина, изданному в Нью-Йорке в 1953 году.
Ночлег (23 марта 1949) опубл. в сборнике «Весной в Иудее. Роза Иерихона», Нью-Йорк, 1953
Первоначальное заглавие рассказа — «На постоялом дворе». Работая над рассказом, Бунин, чтобы почувствовать Испанию, найти нужные краски, читал «Дон Кихота» Сервантеса. Он писал Н. А. Тэффи 6 марта 1949 года: «…теперь одолеваю „Дон Кихота“… в тщетной надежде зацепиться хоть за что-нибудь испанское…».
Темные аллеи — Бунин И.А.
I. Темные аллеи
В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьезный и темноликий, с редкой смоляной бородой, похожий на старинного разбойника, а в тарантасе стройный старик-военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами; подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования; взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый.
Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, взбежал на крыльцо избы.
– Налево, ваше превосходительство! – грубо крикнул с козел кучер, и он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошел в сенцы, потом в горницу налево.
В горнице было тепло, сухо и опрятно: новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол, за столом чисто вымытые лавки; кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом, ближе стояло нечто вроде тахты, покрытой пегими попонами, упиравшейся отвалом в бок печи, из-за печной заслонки сладко пахло щами – разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом.
Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее в одном мундире и в сапогах, потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове – седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились, красивое удлиненное лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы:
Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой.
– Добро пожаловать, ваше превосходительство, – сказала она. – Покушать изволите или самовар прикажете?
Приезжий мельком глянул на ее округлые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил:
– Самовар. Хозяйка тут или служишь?
– Хозяйка, ваше превосходительство.
– Сама, значит, держишь?
– Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело?
– Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю.
– Так. Так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя.
Женщина все время пытливо смотрела на него, слегка щурясь.
– И чистоту люблю, – ответила она. – Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич.
Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел:
– Надежда! Ты? – сказал он торопливо.
– Я, Николай Алексеевич, – ответила она.
– Боже мой, Боже мой! – сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. – Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?
– Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под шестьдесят, думаю?
– Вроде этого… Боже мой, как странно!
– Что странно, сударь?
– Но все, все… Как ты не понимаешь!
Усталость и рассеянность его исчезли, он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить:
– Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?
– Мне господа вскоре после вас вольную дали.
– Долго рассказывать, сударь.
– Замужем, говоришь, не была?
– Почему? При такой красоте, которую ты имела?
– Не могла я этого сделать.
– Отчего же не могла? Что ты хочешь сказать?
– Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас любила.
Он покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал.
– Все проходит, мой друг, – забормотал он. – Любовь, молодость – все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова? «Как о воде протекшей будешь вспоминать».
– Что кому Бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всякого проходит, а любовь – другое дело.
Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся:
– Ведь не могла же ты любить меня весь век!
– Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот… Поздно теперь укорять, а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, – сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня – помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие «темные аллеи», – прибавила она с недоброй улыбкой.
– Ах, как хороша ты была! – сказал он, качая головой. – Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?
– Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть.
– А! Все проходит. Все забывается.
– Все проходит, да не все забывается.
– Уходи, – сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. – Уходи, пожалуйста.
И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил:
– Лишь бы Бог меня простил. А ты, видно, простила.
Она подошла к двери и приостановилась:
– Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носят.
– Да, да, не к чему, прикажи подавать лошадей, – ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. – Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно – жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал – пока рос, каких только надежд на него не возлагал! А вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести… Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни.
Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее.
Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, как прелестна была! Волшебно прелестна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку и тотчас стыдился своего стыда. «Разве неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни?»
К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысцой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал с серьезной грубостью:
– А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?
– Баба – ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает.
– Это ничего не значит.
– Как не значит! Кому ж не хочется получше пожить! Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута! Не отдал вовремя – пеняй на себя.
– Да, да, пеняй на себя… Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду…
Низкое солнце желто светило на пустые поля, лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал:
«Да, пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! „Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи…“ Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Эта самая Надежда не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей?»