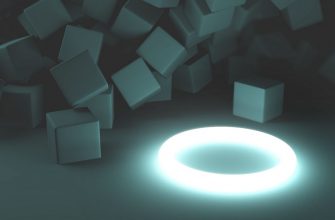Онлайн чтение книги Рассказы Ляо Чжая о необычайном Strange Tales from a Chinese Studio
Лис выдает дочь замуж
Министр Инь из Личэна в молодости был беден, но обладал мужеством и находчивостью. В его городе был дом, принадлежавший одной старой и знатной семье и занимавший огромную площадь в несколько десятков му, причем здания с пристройками тянулись неразрывною линией. Однако там постоянно видели непонятные странности нечистой силы, поэтому дом был заброшен, никто в нем жить не хотел. Затем прошло много времени, в течение которого лопух и бурьян закрыли все пространство, так что даже среди белого дня туда никто не решался зайти.
Как-то раз Инь устроил с товарищами попойку, на которой один из них сказал:
– Вот если кто-нибудь сумеет провести там одну ночь – тому мы устроим в складчину пир.
Инь вскочил и вскричал:
– Подумаешь, как трудно!
Взял с собой циновку и пошел к дому. Остальные проводили его до самых ворот; все шутили и говорили ему:
– Мы тебя пока тут подождем. Если что-нибудь тебе покажется, ты сейчас же закричи.
– Ладно, – сказал Инь, – если там будет бес или лиса, я захвачу вам что-нибудь в доказательство.
Сказал – и пошел в дом.
Войдя туда, он увидел высокий бурьян, закрывавший собой все тропы; лопухи и пырей выросли высотою с коноплю. В эту ночь луна была в первой четверти и светила мутно-желтым светом, но двери все-таки различить было можно. Пробираясь ощупью сквозь несколько дверей, он наконец дошел до последнего, главного здания и взобрался наверх, на лунную площадку, которая привлекательно сияла и блистала чистотой. Тут он и решил остановиться.
Сначала он стал смотреть на запад, где еще светила луна, словно полоска в пасти гор. Посидел так довольно долго: ничего, решительно ничего странного. Он посмеялся про себя над вздорными слухами, постлал циновку, положил под голову камень и стал лежа смотреть на Ткачиху и Пастуха, а когда эти звезды начали меркнуть, сознание его помутнело, и он уже отходил ко сну, как вдруг услышал в нижней части дома стук шагов, быстро подымавшихся наверх.
Инь притворился спящим, но наблюдал. Видит: пришла какая-то служанка с фонарем в виде лотоса в руках. Вдруг она его увидела и в испуге попятилась, говоря тому, кто шел за ней:
– Здесь живой человек!
– Не знаю, – отвечала она.
Тут поднялся какой-то старик, подошел к циновке, внимательно посмотрел на спящего и сказал:
– Это министр Инь. Он сладко спит, пусть его – будем делать наше дело, Барин – человек без предрассудков, не закричит, если что странное увидит.
С этими словами старик и служанка вошли в комнаты.
Раскрылись все двери, и народу прибывало все больше и больше. Загорелись в доме огни – стало светло как Днем. Инь слегка поворочался, потом чихнул и кашлянул.
Услыша, что он проснулся, старик вышел, стал на колени и сказал:
– Барин, моя дочка сегодня ночью выходит замуж. Нежданно-негаданно мы вдруг встречаем здесь вашу милость. Позвольте надеяться, что вы не будете нас осуждать слишком сурово.
Инь поднялся, потянулся, поправился и сказал:
– Я не знал, что сегодняшней ночью будет эта радостная церемония. Ужасно сконфужен, что мне нечем одарить молодых.
– Пусть только ваша милость, – отвечал старик, – соблаговолит подарить нас своим светлым посещением, и этого будет достаточно, чтобы отогнать от нас все зловещее. Мы будем очень счастливы. Если же ваша милость даст себе труд пожаловать к нам посидеть, то мы польщены этим будем чрезвычайно.
Инь с удовольствием согласился и пошел в комнаты. Видит: обстановка и сервировка блестящи. Выходит какая-то женщина, лет за сорок, и кланяется ему.
– Это, с вашего позволения, моя жена, – представил ее старик.
Инь ответил приветствием. Сейчас же послышались оглушительные звуки флейт, по лестнице бежали люди и кричали:
Старик быстро выбежал встречать, а Инь остался стоять и тоже как бы ждал. Через несколько минут толпа слуг с фонарями, обтянутыми газом, ввела жениха, которому можно было дать лет семнадцать – восемнадцать. Наружность его была очень элегантна, манеры прелестны. Старик велел ему прежде всего сделать церемонию приветствия перед знатным гостем. Юноша обратился к Иню, а тот, играя роль как бы принимающего гостей, держал себя наполовину хозяином. Затем уже обменялись поклонами старик и юноша.
После этого уселись за стол. Через некоторое время стали собираться густыми толпами разряженные и разрумяненные женщины. Подавали вино и кушанья, жирные, отменные – от них шел туман. Яшмовые кубки и золотые чаши на столах так и сверкали.
Когда вино обошло гостей уже по нескольку раз, старик позвал слугу и велел пригласить невесту. Слуга ушел и долго не появлялся. Тогда старик встал и сам открыл полог невесты, торопя ее выйти; и вот ее вывели под руки несколько старух служанок. На невесте нежно звенели драгоценности, и запах сильных духов шел от нее во все стороны. Старик велел ей обратиться к почетному месту, где сидел Инь, и поклониться. После этого она встала и уселась подле матери. Инь незаметно окинул ее взором. Нежно-синие краски головного убора сочетались с пышным нарядом феникса, в котором сияли блестящие серьги. Лицо блистало красотой, в мире не встречаемой.
Теперь стали угощать вином в золотых чашах, каждая по нескольку бутылок. Иню пришло тут на мысль, что эту-то вещь и можно взять, в виде доказательства происходящего, для предьявления приятелям, и он незаметно сунул чашу в рукав, затем притворился пьяным, склонился к столу, свалился и уснул, а все кричали: – Барин пьян!
Вслед за тем Инь слышит, как жених собирается уезжать. Вдруг заиграла музыка, и все толпой бросились по лестнице вниз. Когда они ушли, хозяин стал убирать винные сосуды. Глядь – не хватает одной чаши. Искали, шарили – так и не нашли. Кто-то намекнул на лежащего гостя, но старик сердито запретил ему говорить, боясь, как бы Инь не услыхал. Затем все стихло и в комнатах, и на дворе.
Инь встал. Было темно: ни свечи, ни фонаря. Но все было насыщено запахом духов и вина. Подождав, пока на востоке забелело, Инь не торопясь вышел, пощупывая в рукаве своем золотую чашу. Когда он пришел к воротам, то оказалось, что компания уже давно его поджидала. Ему выразили некоторое сомнение, говоря, что он, может быть, ночью вышел, а только утром снова вошел в дом, но Инь вытащил чашу и предьявил ее скептику. Зрители ахнули и стали расспрашивать. Инь рассказал, и все убедились, что такой вещи у бедного ученого не бывает, – убедились и поверили.
Впоследствии, когда Инь уже выдержал последние государственные экзамены, он был как-то назначен в Фэй-Цю. Однажды его угощали у местных богачей Чжу. Хозяин велел вынуть большие чаши. Слуги долго не приходили. Наконец подошел мальчик-слуга и, прикрыв рот, о чем-то шепнул хозяину, и тот выразил гневное раздражение. Затем гостю поднесли золотую чашу с вином, приглашая выпить. Инь посмотрел и заметил, что по форме и по отделке эта чаша не отличается от той лисьей, что у него дома, и, в крайнем смущении, спросил, откуда она и кто ее делал. Хозяин отвечал, что этих чаш всего восемь. Они были заказаны у искусного мастера его дедом, когда тот жил в столице. Как родовая драгоценность они хранились за десятью замками, и очень долгое время их не вынимали, но теперь, ввиду лестного посещения начальника области, их вынули из сундуков, но их оказалось только семь: по-видимому, кто-то из домашней прислуги одну украл. С другой стороны, и пыль и печати не тронуты. Совершенно необьяснимая вещь. Инь засмеялся:
– Ну что же, значит, чаша полетела в эмпиреи! Однако драгоценность, передававшаяся из поколения в поколение, затеряться не может. Вот у меня есть одна такая чаша, что-то уж слишком похожая на вашу. Подождите, я вам ее преподнесу.
После обеда, вернувшись к себе, Инь вынул чашу и с нарочным послал ее угощавшему. Тот рассмотрел ее внимательно и ахнул от изумления. Сейчас же явился лично благодарить и спросил, откуда она к нему попала. Инь тогда рассказал ему все подробности от начала до конца. И стало ясно, что лисица может, правда временно, достать редкостную вещь, но не смеет оставить ее у себя навсегда.
Рассказы ляо чжая о необычайном смотреть
Рассказы Ляо Чжая о необычайном
Василий Михайлович Алексеев и его Ляо Чжай
Василий Михайлович Алексеев родился 14 января 1881 года. Он умер 12 мая 1951 года, не успев опубликовать многие свои исследования и переводы, над которыми трудился до последних дней жизни. Уже после кончины В. М. Алексеева вышли замечательные его книги «В старом Китае» (1958), «Китайская классическая проза» (1958, 1959), «Китайская народная картина» (1966), «Китайская литература» (1979) и большой сборник статей «Наука о Востоке» (1982).
Начало научной деятельности В. М. Алексеева пришлось на пору, когда в русском востоковедении творили выдающиеся таланты. Учителями, старшими товарищами, сверстниками В. М. Алексеева были С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской, И. Ю. Крачковский. Все они были удивительны по одаренности, образованности, по индивидуальным, присущим каждому из них прекрасным человеческим качествам. Они были великими востоковедами, учеными и организаторами науки, но именно В. М. Алексеев обладал самой большой из отличающей всех их широтой литературных интересов, самой тонкой артистичностью, которой мы обязаны его сохраняющими и теперь неувядаемую свежесть переводами китайской классики.
И, единственный среди них, В. М. Алексеев ни в какой мере не наследовал свою интеллигентность. Он рос в семье заводского писаря и работницы, где книга едва ли была частым гостем. «Я родился и жил, – пишет он, – среди людей, имевших право на труд только тогда, когда кто-то свыше давал им „место“, и не имевших никакого права на образование, тем более – на культурную жизнь». По счастью, «свыше» было предоставлено В. М. Алексееву место на казенный счет в Кронштадтской гимназии, после которой он в 1902 году окончил факультет восточных языков Петербургского университета. Редкая талантливость и целеустремленное трудолюбие В. М. Алексеева заставили обратить на него внимание выдающихся русских профессоров В. П. Васильева и А. О. Ивановского, а впоследствии и крупнейшего французского синолога Э. Шаванна, в четырехмесячной археологической экспедиции которого в Северный Китай молодой ученый принял участие в 1907 году.
Он вел путевой дневник, опубликованный через полвека и открывший для нас многое в последующих трудах ученого. Дневник дорог нам бессомненной документальностью. Он писался для себя. В нем отразились душевные заботы двадцатишестилетнего В. М. Алексеева, взгляд его на мир. Перед нами молодой человек начала века, думающий о судьбе своего народа и старающийся понять жизнь народа, изучаемого им. В этом, собственно, и первое столкновение его с Шаваниом, погрузившимся в археологию, в то время как спутнику его нужен «нынешний живой Китай», который «говорит о себе со своих стен, дверей, косяков, потолков, лодок…».
Он знакомится с людьми, вникает в условия их тяжкого существования и уже навсегда отказывается отделять науку от жизни. В Вэйсяне, уездном городе по дороге из Цзинани в Циндао, они с Шаванном осматривают в одном богатом доме коллекцию древних вещей. Какие еще чувства, кроме восхищения, способна вызвать у иностранца, путешественника, на день остановившегося в чужом городе, эта увиденная им утварь, эти украшения, отстраненные прошедшими веками от давно умерших владельцев и ставшие лишь обьектом науки? «Возвращаясь в гостиницу через город, город бедных людей, не имеющий, конечно, ни одного музея, думаю о той несправедливости, которая отнимает у народа его же сокровища и прячет их в сундуках у богачей за семью печатями и замками».
Вдали от родины, в увлечении Китаем, его не покидают мысли о своей стране, которая, он чувствует, находится накануне новых перемен: «По вечерам философствуем. Я много рассказывал Шаванну о русской литературе (в частности, о Леониде Андрееве). Только в России могут так писать. Я горд моим чудесным языком, я счастлив, что в моей стране растет нечто невероятно великое в умах ее лучших сынов… Скоро наступит переоценка всех ценностей. Слышны удары прибоя, прибоя новой жизни!»
Печатные работы В. М. Алексеева, начавшиеся с небольших заметок и сообщений, появляются с 1902 года. Они разнообразны, как разнообразны интересы ученого, с одинаковой заинтересованностью занимавшегося археологией, нумизматикой, фонетикой, фольклором, театром, народным искусством, народными религиями, идеологической мыслью, литературой Китая.
Почти каждая работа В. М. Алексеева являлась открытием в науке. Время и состояние синологии требовали открытий, подготовленность В. М. Алексеева как ученого, талантливость и деятельность его натуры отвечали этим требованиям. Углубленность, искренность увлеченность, и в то же время всегда сохраняемый им обьективный критический подход к предмету исследования характеризуют труды В. М. Алексеева. Нынешний исследователь китайской культуры, за что бы он ни взялся, в какой бы путь ни отправился, непременно близко или далеко встретит свет маяков, оставленных В. М. Алексеевым.
Народные верования в их преломлении через народное искусство в виде новогодней лубочной картинки привлекали В. М. Алексеева с самого начала его научной карьеры, что и отметилось в науке рядом статей, докладов, а через много лет, уже, к прискорбию, после смерти ученого, и выходом книги «Китайская народная картина». В исследовании В. М. Алексеевым конфуцианства, даосизма, буддизма, составляющих религиозные верования китайского народа, поражает не одна лишь глубина знаний ученого. Нас покоряет ясность атеистической мысли, вскрывающей природу, любой религии, у воспитанного с детства в истовом православии и, значит, перевоспитавшего себя ученого, умевшего написать еще в 1910 году: «Что есть религия Китая? – Вряд ли она отличается от религий человечества по своему существу. Это та же боязнь грозной силы природы и темной силы воображения, наваждений, напастей, скорбей, зол и всякого лиха, ищущая возможности от них заслониться. Всякий способ является одинаково хорошим: заклинание бесов профессиональными фокусниками, приношения Будде, даосской Троице, сонмам духов всех специальностей, аллаху и, наконец, служение христианскому богу и святым его».
В. М. Алексеев считал, что изучение религий Китая «является фундаментом для понимания и обьяснения цивилизации и культуры этой страны», литература же для него «самый важный феномен этой цивилизации». Китайская культура В. М. Алексеевым формулируется «прежде всего, как конфуцианский универсальный комплекс, но затем и как буддийский инфильтрат, питающий своими соками не только китайский быт, но и, например, всю китайскую литературу, и, наконец, как культура даосская, без которой конфуцианство, очевидно, было бы лишь безжизненным педантизмом».
В. М. Алексеев выдвинул идею непрерывности китайской культуры, возникшую у него при изучении народной картины и затем все более утверждавшуюся. «Не может не поразить самая форма картин, их твердый отчетливый рисунок, результат, может быть, трех тысячелетий никогда не прерывавшейся традиции…» Все, с чем сталкивается он в Китае, все более убеждает его в правильности идеи.
Китайская литература – та область синологии, привязанность к которой у В. М. Алексеева была самой сильной и в которой он тоже прежде всего искал проявления жизни и судьбы народа. Вот почему обратился он к Пу Сунлину с его «Рассказами Ляо Чжая о необычайном», опубликовав первый перевод из них в 1910 году и в продолжение четверти века после этого выпустив четыре сборника – и так сделав особенно популярным у нас китайского писателя XVII—XVIII веков. Обладая поражавшим его современников знанием китайского языка во всех его аспектах и китайской культуры в ее исторической протяженности, В. М. Алексеев видел зависимость развития литературы от степени развития общества и рассматривал китайскую литературу в ее связях с материальной и всей духовной культурой народа.
Обаяние литературоведческих исследований В. М. Алексеева – в их текстологической доказательности. В них ясность смелого ума, и глубина новаторской мысли, и сила обширных знаний ученого соединяются с тонкостью восприятия и мастерством поэта. Столь мощно выраженному сочетанию, пожалуй, в мировой науке примеров найдется немного!
Онлайн чтение книги Рассказы Ляо Чжая о необычайном Strange Tales from a Chinese Studio
Предисловие переводчика

У всякого народа, в особенности на заре его культурной жизни, есть смутное чувство, говорящее ему, что те животные, которые его окружают, не так уж далеки от человека, как это кажется, судя по отсутствию у них членораздельной речи – этой типичной принадлежности человеческой породы животных. Наоборот, именно эта жуткая странность, при которой, будучи в данный момент довольными и веселыми, животные не смеются; желая сейчас что-то сказать, не говорят, – эта странность пугает, как неразгаданная тайна, и двуногий царь природы начинает сомневаться в своем непререкаемом властительстве: наоборот, ему кажется, что его окружают существа, от которых он зависит, которые могут диктовать ему свою волю, благоволя ему или вредя. Одною из таких неразгаданных тайн человеку всегда представлялась лисица – та самая лисица, которая, с одной стороны, была ему неприятна, воруя у зазевавшегося хозяина кур, но, с другой, – весьма приятна, в качестве превосходной шубы, сшитой из шкуры тех лисиц, что, в свою очередь, зазевались и попались в руки предприимчивому охотнику.
Кто из нас не знает, какими качествами наделил куму-лису, Лису Патрикеевну, воровку-лису русский человек? Кто не знает таких выражений, как: лисить, лису петь, подпускать лису, лисой пройти, не волчий зуб – так лисий хвост, лиса своего хвоста не замарает, кабы лиса не подоспела, то бы овца волка сьела и т. п., в которых лиса является образом человека – лукавого, хитрого, пролазы, проныры, корыстного льстеца? Русский народ, конечно, не оригинален в данном отношении, и все вышесказанное является лишь примером человеческой изобретательности, первобытной, простодушной, наивной. Ей еще так далеко до развитого миропонимания, прошедшего школу научного наблюдения и успокоившего свое жуткое ощущение соседства непонятных животных пониманием биологической панорамы.
Китайский народ, прежде всего, не отставал в этом отношении от других. Так, ему лиса представлялась всегда символом осторожности и недоверчивости. «Лиса сама закапывает, сама же и раскапывает» – при такой подозрительности никакого дела нельзя сделать. Затем, китайцу лиса точно так же, как и другим народам, кажется хитрым и лицемерным существом, водящим за нос сильных и свирепых зверей, как, например, в одной басне, известной не только одним китайцам (хотя и помещенной в одном древнем тексте), – в басне о лисице, идущей впереди тигра и принимающей на свой счет почтительное поклонение, расточаемое встречными, конечно, только тигру. Далее, так же как и у нас, лисица в Китае представляется существом, одаренным особой способностью к вкрадчивому лицемерию, легко обольщающему жертву и потом безжалостно ее же эксплуатирующему. Наконец, все эти качества, на которые жалуется создающий басни и поговорки крепкий задним умом наивный человек, подчеркиваются китайцем, когда он говорит о лисе, как об определенно злом существе, одинаковом в этом отношении с шакалом и волком, хищном, свирепом, отвратительном. Отвращение к лисе видно даже в таком китайском выражении, как «лисий запах», означающем противную вонь, идущую от больных и неопрятных людей из-под мышек.
Однако китайцу – не в пример, по-видимому, прочим – лиса представляется и полезным существом. Не говоря уже о ее шкуре, ценимой не менее чем где-либо, китайская медицина знает весьма полезные свойства лисьего организма, части которого, например печень, могут исцелять злую лихорадку, истерию, внезапные обмороки, а мясо ее вообще может, как говорят даже солидные китайские медицинские трактаты, – в особенности, если его приготовить должным образом, – исцелять случаи «крайнего испуга, обмороков, бессвязной речи, беспричинных, безрассудных песен, скопления холода во внутренностях, злостного отравления» и других подобных болезней. Лисья кровь, как говорит в своем знаменитом сочинении один из китайских мыслителей первых веков до нашей эры, сваренная с просом, дает способность избегать опьянения, и т. д. и т. д. Одним словом, лиса, оказывается, не так уж безнадежно плоха. Наоборот, – и здесь китайская фантазия идет, по-видимому, впереди всех народов, – она оказывается наделенною редким свойством долголетия, достигающего тысячи лет, и, значит, вообще сверхчеловеческими, даже прямо божескими особенностями. Эти качества, прежде всего, делают ее, конечно, доброю, ибо такова воля умилостивляющего ее человека, который, страшась и подозревая ее в душе своей, боится ей это показать. Так, девятихвостая белая лисица, жившая в горе Ту, явилась древнему герою китайского исторического предания, императору Юю (XXIII в. до н. э.), и он женился на ней, как герой на фее. «Небесная лисица, – говорит другое литературное предание, – имеет девять хвостов и золотистую шерсть; она может проникать в тайны мироздания, покоящиеся на чередовании мужского и женского начал».
Эта волшебная фантастика, которою китайский народ, неизвестно даже с какого времени, окутывает простого плотоядного зверька, разрастается до размеров, которые, по-видимому, совершенно чужды воображению других народов.
Вы проходите по китайским полям и вдруг видите, что перед каким-то курганом стоит огромный стол, на котором покоится ряд древнего вида сосудов, знамена, значки и все вещи, свойственные, насколько вам известно, только храму. Вы осведомляетесь у прохожего мужичка, что это такое, и слышите в ответ: «Это фея-лиса» (хусянье). Она, видите ли, живет где-то тут в норе, и ее упрашивают не вредить бедному народу, – и не только не вредить, а, наоборот, благодетельствовать ему, как благодетельствуют прочие духи. И вы действительно читаете на знаменах и особых красивых лакированных досках крупные надписи: «Есть у меня просьба – непременно ответишь!», «Смилуешься над нами, стадом живых», и т. д. Словом, лиса становится анонимным божеством, равноправным со всеми другими, которым в Китае имя легион. Вот в этой-то своей роли божества, наделенного к тому же способностью принимать всевозможные формы, начиная от лисы-зверя и кончая лисой-женщиной и лисом-мужчиной, во всяком их дальнейшем разнообразии, смотря по тому, на кого и во имя чего требуется действовать, вот в этом мире превращений лиса и кружит человеческую голову всевозможными химерами, создающими самое необыкновенное течение событий там, где обычная человеческая жизнь проста, убога, скучна. На этой почве и развились повести и рассказы Ляо Чжая, перевод которых здесь печатается. Перед русским читателем здесь развертывается самая прихотливая картина сверхьестественного вмешательства лисицы в человеческую жизнь. Она окутывает его злым наваждением, не давая ему жить спокойно в своем же доме и веля поступаться самыми насущными вопросами совести. Она обольщает бедного человека своею нечеловеческой красотой и, воспользовавшись любовью, пьет соки его жизни, а затем бросает в жертву смерти и идет охотиться за другим. Лиса превращает его в бездушного исполнителя своих приказаний, велит ему действовать, как во сне, теряя ощущение подлинной жизни. И боясь злых чар лисы, человек, в сердце которого есть решимость, не знающая сопротивления, обьявляет ей войну, ловит ее, рубит ее, натравливает на нее ее врага, сам рискуя пропасть вместе с ней. Однако, если он действует исподтишка, если он, вместо того чтобы самому проявить героизм, идет к колдуну за талисманом или если он, облагодетельствованный красотой своей лисьей подруги, желает от нее избавиться подловатым образом, стараясь при этом ничем но рисковать, – то горе ему! От него лиса отнимет все, что когда-либо ему дала, вынет семя жизни и погубит бесповоротно и окончательно.
Но, вмешиваясь таким образом в жизнь человека, лиса не всегда действует зло. Верно, что она морочит глупых людей, глумится над алчными и грубыми, охотящимися за счастьем, которое им на роду не писано. Верно, что она жестоко наказывает за распутство, а главное, за вероломство и подлость по отношению главным образом к ней же, – но разве может все это быть сопоставлено с теми нечеловеческими радостями, которые создает появление в серой и убогой жизни человека обольстительной красавицы, не требующей ничего такого, что осложняет жизнь, и отдающейся человеку прямо и решительно, погружая его сразу же в подлинное счастье, в то незаслуженное и огромное, что в жизни творит жизнь и за которое человек идет на все, даже на свою явную погибель. Лиса приходит к человеку сама, влюбляет его в себя, любит его, становится восхитительной любовницей и верной подругой, добрым гением, охраняющим своего друга от злых людей. Она является в жизнь ученого еще более тонкою, чем он сам, и восхищает его неописуемым очарованием, которое человеку, женатому на неграмотной, полуживотной женщине, охраняющей его очаг и отнюдь не претендующей на неиссякающее любовное внимание, является особенно дорогим и которое развертывает всю его сложную личность, воскрешает ее. С легким сердцем устремляется он к своей гибели. Очертя голову и повинуясь зову очарованной души, он сам, своими же руками разрывает сети колдуна, в которые попала его чародейка, – и тогда она преображается, несет ему исцеление и, прощаясь с ним, ловко и легко устраивает ему счастливую, теперь уже мирную жизнь. Однако не претендуй, жалкий человек, на счастье, которого ты не заслуживаешь! Лисий смех, леденящий душу, раздается в ответ на твои просьбы, и глупейший мираж будет дан тебе в удел, вместо грубого счастья, которого ты цинично себе просишь.
Лиса не только женщина. Она может также явиться человеку и в образе мужчины. Это будет тонко образованный ученый, беседа с которым окрыляет дух; он будет товарищ и друг, преданный беззаветно и искренно, ищущий себе ответа в глубине чужой души, но возмущающийся и казнящий своего товарища за всякую попытку использовать его божественную силу в угоду грубому аппетиту. Лис живет вместе с человеком, ничем не отличается, кроме свойственных ему странностей, но иногда он – невидимка и посылает свои чары только одному своему избраннику, сердце которого не заковано обывательским страхом и слепыми россказнями. Лис-невидимка – все тот же преданный друг, иногда, правда, непостижимый в своих действиях, похожих скорее на действия врага, но потом действительно оказывающийся подлинным золотом.
Неся человеку фатальное очарование, приводя его к границам смерти, лиса сама же несет ему исцеление, помогающее как ничто на свете. Она хранит пилюлю вечной жизни, горящую в вечном сиянии бледной колдуньи-луны и способную оживить даже разложившийся труп. И перед тем как стать бессмертным гением надземных сфер, она еще раз вмешивается в жизнь человека и несет ему мир и счастье.
Переводчик и автор этого предисловия предполагает, что эта фантастика, это причудливое смешение мира действительности с миром невероятных возможностей может волновать русского читателя, если он хоть немного склонен к обособлению от жизни, и дать ему ряд переживаний, которые для русской и европейской литературы вообще необыкновенны и интересны.
Эти «Записи необыкновенного, сделанные Ляо Чжаем» («Ляо Чжай чжи и»), можно сказать, не боясь преувеличения, являются в Китае самой популярной книгой. Более того, принимая во внимание число людей, могущих вообще держать книгу в руках, среди общей массы пятисот миллионов китайцев, мы можем, пожалуй, утверждать, что эта книга является если не самой известной, то, во всяком случае, из таковых, говоря теперь уже обо всем земном шаре. Благодаря совершенной свободе печати и издательства, отсутствию понятия о праве собственности на какое бы то ни было литературное произведение, раз оно уже увидело свет в печати, благодаря дешевизне труда и бумаги, эту книгу вы встретите в любой книжной лавке, на любом книжном уличном развале или лотке; вы увидите ее в руках у людей самых разнообразных положений и состояний, классов, возрастов. Книгу эту, прежде всего, читает, читает с восторгом и умилением перед образцом литературной изысканности всякий тонко образованный китаец, не говоря уже про людей с образованием, по качеству средним и ниже среднего, – людей, для которых Ляо Чжай – восхитительная недостижимость. Однако и для тех, кто не особенно грамотен, то есть не имеет того запаса литературного навыка и даже попросту запаса слов, которым располагает образованный китаец, Ляо Чжай – настоящий магнит. Правда, такой читатель понимает сложный, весь блещущий литературной отделкой текст из пятого в десятое, но даже самая фабула, самое мастерство рассказчика, развивающего перед читателем восхитительную картину человеческой жизни, пленяют его настолько, что он не выпускает из рук этой книги и, конечно, не менее образованного знает содержание ее четырехсот с лишним рассказов, как содержание самых ходячих анекдотов.
Однако нам может быть понятно, что читателю этого типа крайне досадно видеть себя в жалком положении человека, питающегося крохами от трапезы господ своих, и он естественным образом всегда стремился, так сказать, к уравнению своих прав. И вот если вы пройдете по Пекину, выйдете за ворота маньчжурского города, пройдете по главной улице до Храма Неба, то в этой части столицы вы увидите ряд чайных, где китайский простолюдин внимает своему шошуды, то есть рассказчику, обладающему особым талантом и развитым уменьем переложить текст и даже стиль Ляо Чжая в такую форму, которая, сохраняя все богатство оригинала, создает особую ритмическую разговорную речь. Таким образом, здесь совершается художественное претворение книжной непонятной речи в живую и понятную, – и китаец малообразованный оказывается точно так же приобщенным к достоинствам Ляо Чжая, как и китаец высокообразованный.
Кто же автор этих рассказов, маг и чародей, сумевший овладеть умами Китая, этой литературной страны, избалованной тысячами поэтов и бесконечным рядом вообще выдающихся писателей?
Пу Сунлин (по фамилии Пу, по имени Сунлин), давший себе литературное прозвание, или псевдоним, Ляо Чжай, родился в 1622 году и умер в 1715 году в провинции Шаньдун, находящейся в Восточном Китае, близ морского побережья, с которого простым глазом видны очертания Порт-Артура. Место действия его рассказов почти не выходит за пределы Шаньдуна, и время их не отступает от эпохи жизни самого автора. Вот что о нем рассказывает его, к сожалению, слишком краткая биография, находящаяся в описании уезда Цзычуань, в котором он родился и умер.
«Покойному имя было Сунлин, второе имя – Люсянь, дружеское прозвание Люцюань. Он получил на экзамене степень суйгуна [1] Суйгун – нечто вроде «действительного студента» былых дней. в 1711 году и славился среди своих современников тонким литературным стилем, сочетавшимся с высоким нравственным направлением. Со времени своего первого отроческого экзамена он уже был известен такой знаменитости, как Ши Жуньчжан, и вообще его литературная слава уже гремела. Но вот он бросает все и ударяется в старинное литературное творчество, описывая и воспевая свои волнения и переживания. В этом стиле и на этой литературной стезе он является совершенно самостоятельным и обособленным, не примыкая ни к кому.
И в характере своем, и в своих речах покойный проявлял благороднейшую простоту, соединенную с глубиной мысли и основательностью суждения. Он высоко ставил непоколебимость принципа, всегда называющего только то, что должно быть сделано, и неуклонность нравственного долга.
Вместе со своими друзьями Ли Симэем и Чжан Лию, также крупными именами, он основал поэтическое содружество, в котором все они старались воспитать друг друга в возвышенном служении изящному слову и в нравственном совершенстве.
Покойный Ван Шичжэнь всегда дивился его таланту, считая его вне пределов досягаемости для обыкновенных смертных.
В семье покойного хранится богатейшая коллекция его сочинений, но „Рассказы Ляо Чжая о чудесах“ („Ляо Чжай чжи и“) особенно восхищают всех нас, как нечто самое вкусное, самое приятное».
Итак, перед нами типичный китайский ученый. Посмотрим теперь, каково содержание его личности как ученого, то есть постольку, поскольку это касается воспитания и вообще культурного показателя. Остальное, не правда ли, уже сообщено в вышеприведенных строках исторической справки.
Китайский ученый отличается от нашего главным образом своею замкнутостью. В то время как наш образованный человек – не говоря уже об ученом – наследует в той или иной степени культуру древнего мира и Европы, являющуюся вообще сборным соединением разных отраслей человеческого знания и опыта, начиная с религии и кончая химией и чистописанием, – образованный и ученый китаец является – и особенно являлся в то время, когда жил Пу Сунлин – Ляо Чжай, – наследником и выразителем только своей культуры, причем главным образом литературной. Он начинал не с детских текстов и легких рассказов, а сразу с учения Конфуция и всего того, что к нему примыкает, иначе говоря – с канона китайских писаний, к которым, конечно, можно применить наше слово и понятие «священный», но с надлежащею оговоркой, а именно: они не заимствованы, как у нас, от чуждых народов и не занимаются сверхьестественным откровением, а излагают учение «совершенного мудреца» Конфуция о призвании человека к высшему служению. Выучив наизусть – непременно в совершенстве – и научившись понимать с полною отчетливостью и в согласии с суровой, непреклонной традицией все содержание этой китайской библии, которая, конечно, во много раз превосходит нашу, хотя бы размерами, не говоря уже о трудности языка, – той библии, о которой в нескольких строках нельзя дать даже приблизительного представления (если не сказать в двух словах, что ее язык так же похож на тот, которым говорит учащийся, как русский язык на санскрит), – после этой суровой выучки, на которой «многи силу потеряли» и навсегда сошли с пути образования, китаец приступал к чтению историков, философов разных школ, писателей по вопросам истории и литературы, а главным образом, к чтению литературных образцов, которые он, по своей уже выработанной привычке, неукоснительно заучивал наизусть. Цель его теперь сводилась к выработке в себе образцового литературного стиля и навыка, которые позволили бы ему на государственном экзамене проявить самым достойным образом свою мысль в сочинении на заданную тему, а именно доказать, что он в совершенстве постиг всю глубину духовной и литературной китайской культуры тысячелетий и является теперь ее современным представителем и выразителем.
Вот, значит, в чем заключалось китайское образование. Оно вырабатывало человека, отличающегося от необразованного, во-первых, тем, что он был в совершенстве знаком с тайною языка во всех его стадиях, начиная от архаической, понятной только в традиционном обьяснении, и кончая современной, сложившейся из непрерывного роста языка, который впоследствии прошел еще целый ряд промежуточных стадий. Во-вторых, этот человек держал в своей памяти – и притом самым отчетливым образом – богатейшее содержание китайской литературы, в чтение которой он весь был погружен чуть ли не двадцать лет, а то и больше! Таким образом, перед нами человек со сложным миропониманием, созерцающий всю свою четырехтысячелетнюю культуру, и со сложным умением выражать свои мысли, пользуясь самыми обширными запасами культурного языка, ни на минуту не знавшего перерыва в своем развитии.
Таков был китайский интеллигентный человек времен Пу Сунлина. Чтобы теперь представить себе личность самого Ляо Чжая, автора этих странных рассказов, надо к вышеизложенной общей формуле образованного человека прибавить особо отличную память, поэтический талант и размах выдающейся личности, которой сообщено столь сложное культурное наследие.
Все это и отразилось на пленительных его рассказах, в которых прежде всего заблистал столь известный всякой литературе талант повествователя. Там, где всякий другой человек увидит только привычные формы жизни, прозорливый писатель увидит и покажет нам сложнейшую и разнообразнейшую панораму человеческой жизни и человеческой души. То, что любому из нас, простых смертных, кажется обыденным, рядовым, не заслуживающим внимания, то ему кажется интересным, тесно связанным с потоком жизни, над которым, сам в нем плывя, только он может поднять голову. И наконец, тайны человеческой души, видные нам лишь постольку, поскольку чужая душа находит себе в наших бледных и ничтожных душах кое-какое отражение, развертываются перед поэтом во всю ширь и влекут его в неизбывные глубины человеческой жизни.
Однако талантливый повествователь – это только ветвь в лаврах Ляо Чжая. Самым важным в ореоле его славы является соединение этой могучей силы человека, наблюдающего жизнь, с необыкновенным литературным мастерством. Многие писали на эти же темы и до него, но, по-видимому, только Ляо Чжаю удалось приспособить утонченный литературный язык, выработанный, как мы видели, многолетней суровой школой, к изложению простых вещей. В этом живом соединении рассказчика и ученого Ляо Чжай поборол прежде всего презрение ученого к простым вещам. Действительно, китайскому ученому, привыкшему сызмальства к тому, что тонкая и сложная речь передает исключительно важные мысли – мысли Конфуция и первоклассных мастеров литературы и поэзии, которые, конечно, всегда чуждались «подлого штиля» во всех его направлениях, – этому человеку всегда казалось, что так называемое легкое чтение есть нечто вроде исподнего платья, которое все носят, но никто не показывает. И вот является Ляо Чжай и начинает рассказывать о самых интимных вещах жизни таким языком, который делает честь самому выдающемуся писателю важной, кастовой китайской литературы. Совершенно отклонившись от разговорного языка, доведя это отклонение до того, что поселяне-хлебопашцы оказываются у него говорящими языком Конфуция, автор придал своей литературной отделке такую высоту, что члены его поэтического содружества (о котором упоминалось выше) не могли сделать ему ни одного возражения.
Трудно сообщить русскому читателю, привыкшему к вульгарной передаче вульгарных тем, и особенно разговоров, всю ту восхищающую китайца двойственность, которая состоит из простых понятий, подлежащих, казалось бы, выражению простыми же словами, но для которых писатель выбирает слова-намеки, взятые из обширного запаса литературной учености и понимаемые только тогда, когда читателю в точности известно, откуда взято данное слово или выражение, что стоит впереди и позади него – одним словом, – в каком соседстве оно находится, в каком стиле и смысле употреблено на месте и какова связь его настоящего смысла с текущим текстом. Так, например, Пу Сунлин, рассказывая о блестящем виде бога города, явившегося с неба к своему зятю как незримый другим призрак, употребляет сложное выражение в четыре слова, взятых из разных мост «Шицзина», классической древней книги античных стихотворений, причем в обоих этих местах говорится о четверке рослых коней, влекущих пышную придворную колесницу. Таким образом, весь вкус этих четырех слов, изображающих парадные украшения лошадей, сообщается только тому, кто знает и помнит все древнее стихотворение, из которого они взяты. Для всех остальных – это только непонятные старые слова, смысл которых, в общем, как будто, говорит о том, что получалась красивая, пышная картина. Разница впечатлений такова, что даже трудно себе представить что-либо более удаленное одно от другого. Затем, например, рассказывая о странном монахе, в молодом теле которого поселилась душа глубокого старца, Пу пользуется словами Конфуция о самом себе. «Мне, – говорит китайский мудрец, – было пятнадцать – и я устремился к учению; стало тридцать, – и я установился…» Теперь фраза Пу гласит следующее: «Лет ему (монаху) – только „и установиться“, а рассказывал о делах, случившихся восемьдесят, а то и больше лет тому назад». Значит, эта фраза понятна только тем, кто знает вышеприведенное место из Конфуция, и окажется, что монаху было тридцать лет, следовательно, перевести эту фразу на наш язык надо было бы так: «Возраст его был всего-навсего, как говорит Конфуций: „когда только что он установился“, а рассказывал…» и т. д. Одним словом, выражения заимствуются Пу Сунлином из контекста, из связи частей с целым. Восстановить эту ассоциацию может только образованный китаец. О трудностях перевода этих мест на русский язык не стоит и говорить.
Однако все это еще сущие пустяки. В самом деле, кто из китайцев не знал (в прежнее, дореформенное время) классической литературы? Наконец, всегда можно было спросить даже простого учителя первой школы, и он мог или знать, или догадаться. Другое дело, когда подобная литературная цветистость распространяется на все решительно поле китайской литературы, задевая историков, и философов, и поэтов, и всю плеяду писателей. Здесь получается для читателя настоящая трагедия. В самом деле, чем дальше развивает отборность своих выражений Пу Сунлин, тем дальше от него читатель. Или же, если последний хочет приблизиться к автору и понимать его, то сам должен стать Пу Сунлином, или, наконец, обращаться поминутно к словарю. И вот, чтобы идти навстречу этой потребности, современные издатели рассказов Ляо Чжая печатают их вместе с толкованиями цветистых выражений, приведенными в той же строке. Конечно, выражения, переведенные и обьясненные выше как примеры, ни в каких примечаниях не нуждаются, ибо известны каждому мало-мальски грамотному человеку.
Таким образом, вот тот литературный прием, которым написаны повести Ляо Чжая. Это, значит, вся сложная культурная ткань древнего языка, привлеченная к передаче живых образов в увлекательном рассказе. Волшебным магнитом своей богатейшей фантазии Пу – Ляо Чжай заставил кастового ученого отрешиться от представления о литературном языке, как о чем-то важном и трактующем только традиционные темы. Он воскресил язык, извлек его, так сказать, из амбаров учености и пустил в вихрь жизни простого мира. Это ценится всеми, и до сих пор образованный китаец втайне думает, что вся его колоссальная литература есть скорее традиционное величие и что только на повестях Ляо Чжая можно научиться живому пользованию языком ученого. С другой же стороны, простолюдин, не имевший времени закончить свое образование, чувствует, что Ляо Чжай рассказывает вещи, ему родные, столь милые и понятные, и одолевает трудный язык во имя близких ему целей, что, конечно, более содействует распространению образования, нежели самая свирепая и мудрая школа каких-либо систематиков.
В повестях Ляо Чжая почти всегда действующим лицом является студент. Китайский студент отличается от нашего, как видно из сказанного выше, тем, что он может оставаться студентом всю жизнь, в особенности если он неудачник и обладает плохою памятью. Мы видели, что и сам автор повестей Пу выдержал мало-мальски сносный экзамен лишь в глубокой старости. Мягко обходя этот вопрос, историческая справка, приведенная на предыдущих страницах, не говорит нам о том, что составляло трагедию личности Пу Сунлина. Он так и не смог выдержать среднего экзамена, не говоря уже о высшем, и, таким образом, стремление каждого китайского ученого стать «государственным сосудом» встретило на его пути решительную неудачу. Как бы ни обьясняли себе – он, его друзья, почитатели и, наконец, мы – эту неудачу, сколько бы мы ни говорили, что живому таланту трудно одолеть узкие рамки скучных и вязких программ с их бесчисленными параграфами и всяческими рамками, выход из которых считается у экзаменаторов преступлением, – все равно: жизнь есть жизнь, а ее блага создаются не индивидуальным пониманием вещей, а массовой оценкой, и потому бедный Ляо Чжай глубоко и остро чувствовал свое жалкое положение вечного студента, отравлявшее ему жизнь. И вот он призывает своим раненым сердцем всю фантастику, на которую только способен, и заставляет ухаживать за студентом мир прекрасных фей. Пусть, думается ему, в этой жизни бедный студент горюет и трудится. Вокруг него порхает особая, фантастическая жизнь. К нему явятся прекрасные феи, каких свет не видывал… Они подарят ему счастье, от которого он будет вне себя, они оценят его возвышенную душу и дадут ему то, в чем отказывает ему скучная жизнь. Однако он – студент, ученик Конфуция, его апостол. Он не допустит, как сделал бы всякий другой на его месте, чтобы основные принципы справедливости, добра, человеческой глубины человеческого духа и вообще незыблемых идеалов человека были попраны вмешательством химеры в реальную жизнь. Он помнит, как суров и беспощаден был Конфуций в своих приговорах над людьми, потерявшими всякий масштаб и в упоенье силы начинающими приближаться к скоту, – да! он это помнит и свое суждение выскажет всегда, чего бы это ему ни стоило. И как в языке Ляо Чжая собрано все культурное богатство китайского языка, так и в содержании его повестей собрано все богатство человеческого духа, волнуемого страстью, гневом, завистью и вообще тем, что всегда его тревожило, – и все это богатство духа вьется вихрем в душе вечно юного китайского студента, стремящегося, конечно, поскорее уйти на трон правителя, но до этих пор носящего в себе незыблемо живые силы, сопротивляющиеся окружающей пошлости темных людей.
Кружа таким образом своей мыслью около своей неудачи и создавая свой идеал в размахе страстей жизни, бедный студент сумел, однако, высказаться положительно и вызвал к себе отношение, далеко превышающее лавры жалостливого рассказчика. Исповеданные им конфуцианские заветы права и справедливости возбудили внимание к его личности, и, таким образом, личность и талант сплелись в одну победную ветвь над головой Ляо Чжая. И настолько умел он захватить людей своей идейностью, что один император, ярый поклонник его таланта, хотел даже поставить табличку с его именем в храме Конфуция, чтобы таким образом сопричислить его к сонму учеников бессмертного мудреца. Однако это было сочтено уже непомерным восхвалением, и дело провалилось.
Содержание повестей, как уже было указано, все время вращается в кругу и – «причудливого, сверхьестественного, странного». Говорят, книга сначала была названа так: «Рассказы о бесах и лисицах» («Гуй ху чжуань»). Действительно, все рассказы Ляо Чжая занимаются исключительно сношением видимого мира с невидимым при посредстве бесов, оборотней, лисиц, сновидений и т. д. Злые бесы и неумиренные, озлобленные души несчастных людей мучают оставшихся в живых. Добрые духи посылают людям счастье. Блаженные и бессмертные являются в этот мир, чтобы показать его ничтожество. Лисицы-женщины пьют сок обольщенных мужчин и перерождаются в бессмертных. Их мужчины посланы в мир, чтобы насмеяться над глупцом и почтить ученого умника. Кудесники, волхвы, прорицатели, фокусники являются сюда, чтобы, устроив мираж, показать новые стороны нашей жизни. Горе злому грешнику в подземном царстве! Сколько нужно сложных случайностей и совпадений, чтобы извлечь его из когтей злых бесов! А главное судьба! Да, судьба – вот общий закон, в котором тонет все и тонут все: и бесы, и лисицы, и всякие люди. Судьба отпускает человеку лишь некоторую долю счастья, и как ни развивай ее, дальше положенного предела не разовьешь. Фатум бедного человека есть абсолютное божество. Таков крик исстрадавшейся души автора, звучащий в его «книге сиротливой досады», как выражаются его критики и почитатели.
Как же случилось, что все эти химерические превращения и вмешательства в человеческую жизнь, все эти туманные, мутные речи, «о которых не говорил Конфуций», не говорят и все классики, – как случилось, что Пу Сунлин избрал именно их для своих повестей, – и не только случайно выбрал, но нет – собирал их заботливо всю свою жизнь? Как это совместить с его конфуцианством?
Он сам об этом подробно говорит в предисловии к своей книге, указывая нам прежде всего, что он в данном случае не пионер: и до него люди такой высокой литературной славы, как Цюй Юань и Чжуан-цзы (IV в. до н. э.), выступали поэтами причудливых химер. После них можно также назвать ряд имен (например, знаменитого поэта XI в. Су Дунпо), писавших и любивших все то, что удаляется от земной обыденности. Таким образом, под защитой всех этих славных имен, Пу не боится нареканий. Однако главное, конечно, не в защите себя от нападок, а в собственном волевом стремлении, которое автор обьясняет врожденной склонностью к чудесному и фатальными совпадениями его жизни. Он молчит здесь о своей неудаче в этом земном мире, которая, конечно, легла в основу его исповедания фатума. Однако из предыдущего ясно, что Пу в своей книге выступает в ряду своих предшественников с жалобой на человеческую несправедливость. Эта тема всюду и везде, как и в Китае, вечна, и, следовательно, мы отлично понимаем автора и не удивляемся его двойственности, без которой, между прочим, он не имел бы той литературной славы, которая осеняла его в течение этих двух столетий.
Литературный перевод этих повестей, сделанный с оригинала, появляется на русском языке впервые. Все, что появлялось доселе, было или учебным переводом с примечаниями для руководства начинающих китаеведов, или же переводом с иностранных переводов. Это обязывает переводчика предложить вниманию читателя несколько соображений, которые могут им, если он того пожелает, отчасти руководить.
Переводчик просил бы прежде всего не удивляться всему тому, что не совпадает с привычным чтением. Ведь перевод на китайский язык наших произведений, например поэм Жуковского, сна Татьяны из «Евгения Онегина», святочных рассказов и т. д. поверг бы китайца точно так же в крайнее удивление и вызвал бы недоуменный вопрос: где же тут литература, что интересного в этой диковинной чепухе, шокирующей литературный вкус читателя? Опасно, – должен предостеречь переводчик, – будучи простым обывателем, мнить себя абсолютным судьей чужеземного творчества.
Выпускаемая книжка, конечно, фактически обращается к любому человеку, умеющему читать, но достоинство ее обращено только к тем, кто любит новое; кто всей душой стремится в новый мир человеческих чувств, переживаний, образов и слов; кто знает цену новому знакомству, новому проникновению в новые тайны человеческой души. Такому читателю, наоборот, показалось бы чрезвычайно странным и неприятным, если бы он в переводах с китайского увидел бы только то, что давно уже знал из своего опыта с чтением русской литературы.
Далее, переводчик просит не забывать, что дело происходит в XVII веке, в Китае, еще совершенно не затронутом европейской цивилизацией и, следовательно, молчащем во всех тех областях, которые в то время требовали от мирового писателя отзыва и ответа.
Затем, хорошо было бы, если бы читатель, натолкнувшись в переводе этих рассказов на шокирующие чувство благопристойности места, взглянул на них так же, как глядят на светящийся предмет близорукие, то есть через некоторые очки, восстанавливающие нормальное зрение и более не позволяющие видеть вместо светящейся точки радужное пятно. Читатель этого типа легко поймет, что фактическая непристойность, изображенная Ляо Чжаем в двух-трех словах, отнюдь не рассчитана на такое внимание, каким окружены соответствующие места у Ги де Мопассана, Золя, не говоря уже о нашей литературе начала XX века, Арцыбашеве и других. Переводчику хотелось бы предупредить обычное лицемерие, а тем более ханжество читателя, не умеющего относиться к литературной вещи с должным чувством пропорции ее частей и форм.
Наконец, как выяснено уже на предыдущих страницах, перевод с китайского языка, располагающего двойственностью своего проявления в литературе и в разговоре, на русский язык, который этой двойственности почти не имеет, – во всяком случае, ее не любит, – такой перевод не может воссоздать оригинала во всей его красе. Протянуть от своих слов к их родникам те же нити, что протягивает гениальный китаец, устроить читателю тот же литературный пир, что блещет и волнует в рассказах Ляо Чжая, – это значило бы стать Ляо Чжаем на русской почве. Переводчик есть только переводчик. Ему доступны фразы, слова, иногда образы, но переводчик Байрона не Байрон, переводчик Пушкина не Пушкин, и, значит, переводчик Ляо Чжая не Ляо Чжай. Если ему удалось найти в себе проникновенное слияние двух разных миров – китайского и русского, если он сумел достойным образом передать содержание повестей на русскую литературную речь, легко читаемую и действительно отражающую подлинный текст, не делая уступок в угоду понятливости читателя, то последний вместе с переводчиком может быть только доволен.