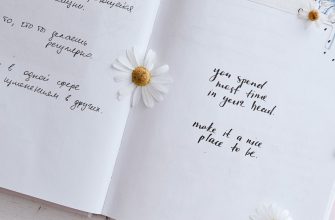Клин православный
 | Храм |  |  | Благочиние |  |  | Статьи |  |  | Вопросы священнику |  |
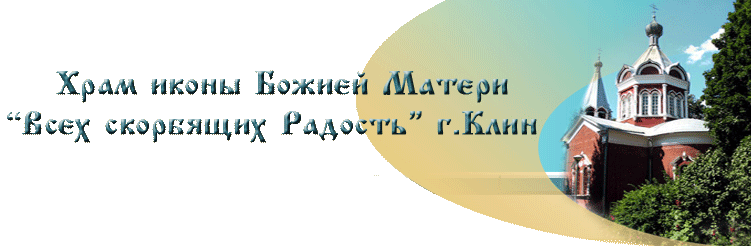 |
Поддержите создание крестильного храма!
 |
 |  | |
Случаи чудесной помощи Божией на войнеОбраз Спасителя в небеНа фронт я попал в 1941 году 22-летним юношей. Был связистом. Участвовал в обороне Ленинграда. Немцы рвались к городу, он был окружен. Пытаясь во что бы то ни стало захватить город, немцы обрушили на нас лавину огня. Один за другим погибали боевые друзья. И вот в одну из бомбежек, когда шквал огня обрушился на город и, казалось, началось светопреставление, произошло настоящее чудо. Ночное небо вдруг озарилось розовым светом, и на розовом небе появился образ Спасителя. От неожиданности все находившиеся в блиндаже бойцы, не сговариваясь, попадали на колени и стали креститься. Образ Спасителя исчез. Небо стало обычным, но кромешный ад прекратился. А мы долго еще не могли прийти в себя. С тех пор я и уверовал в Бога. С этой верой прошел всю войну и после Победы вернулся домой без единого ранения. Образ Христа навсегда остался в моей памяти. «Отец Алексий, спаси!»В начале Великой Отечественной войны попал я в плен к немцам. Заперли они нас в церкви, а затем стали выводить партиями на расстрел. Повели с другими и меня. Вспомнил я тогда об отце Алексии Мечеве. В отчаянии взмолился: «Батюшка отец Алексий, спаси». И перекрестился. Смотрю, немцы, которые нас вели, о чем-то заговорили, а потом отделили меня от остальных и дальше не повели. Всех расстреляли, а я остался жив. С тех пор я в любой беде, при всякой трудности призывал в молитве отца Алексия. «Отче наш. «Один моряк, воевавший на Балтийском море с фашистами, оказался в ледяной воде. Он плыл, выбиваясь из сил. Холодные волны накрывали его с головой. Одежда намокла. Руки, ноги коченели, становились неуправляемыми. Куда плыть? Где север? Где юг? Туман. Непроницаемая стена. Сердце стучит на пределе. В эти минуты ему вспомнилась любимая бабушка, которая в детстве говорила совсем другое: «Ты только скажи: Отче наш. Назови Бога своим Отцом. А Отец оставит ли в беде Свое дитя?» И моряк, с трудом вспоминая слова молитвы, из последних сил шептал: «Отче наш, Сущий на небесах! Да святится Имя Твое. « Не успел моряк дочитать молитву до конца, как густой туман, затянувший все вокруг сплошной пеленой, неожиданно расступился, показался советский корабль, случайно оказавшийся в этом районе, моряка заметили и подняли на борт. И это избавление от неминуемой смерти, да еще после того, как он прочитал молитву, показалось ему настолько чудесным, что моряк поверил в Бога. Из книги «Просите, и дано будет вам». Непридуманные рассказы о чудесной помощи Божией. Фото: Татьяна Сазонова Перепечатка в Интернете разрешена только при наличии активной ссылки на сайт «КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ». Помощь на войнеО чудесах святителя Николая и преподобного Серафима ВырицкогоЭту историю рассказала мне Людмила Владимировна С. Ее бабушка, Варвара Степановна Яцун, трудилась при храме Казанской иконы Божией Матери в Вырице: пела в хоре, помогала при уборке храма, принимала священников. И это в тяжелые 1930-е, 1940-е, 1950-е годы. Человек она была доброжелательный и гостеприимный. Когда строился ее сосед, она постоянно говорила внучке: «Возьми молока и отнеси соседу». Та не понимала: «Бабушка, да зачем? Нам самим оно нужно». А бабушка: «Возьми, внученька, и отнеси ему. У него трое детей. Он строится и нуждается». Варвара Степановна постоянно прибегала за советом и молитвой к преподобному Серафиму Вырицкому и жила его наставлениями. Когда началась Великая Отечественная война, муж ее, Михаил Родионович, и все пятеро сыновей отправились воевать. Всем им Варвара Степановна вшила в гимнастерки иконочки святителя Николая Чудотворца и наказала молиться ему. Преподобный Серафим утешал ее: «Вернутся они». И действительно, с войны пришли и муж, и все пятеро сыновей. И притом все они побывали в самом пекле. Муж и младший 15-летний сын пошли в партизаны. В 1944 году угодили они в засаду к немцам. Их схватили и заперли в сарае, намереваясь утром расстрелять. А наутро в село стремительно ворвались красноармейцы. Немцам стало не до пленных, самим бы ноги унести. Потом сын воевал в Красной Армии, освобождал Европу. Другой сын, Александр, служил на железной дороге и водил поезда на самых опасных участках под немецким обстрелом. Его товарищи погибали один за другим, а на нем – ни царапины. Его сослуживцы удивлялись: «Да ты как будто заговоренный». Не знали они, что хранили его предстательство святителя Николая, молитва преподобного Серафима и горячие материнские моления. Очень тревожилась Варвара Степановна за своего сына Ивана. Ванька рос парнем бедовым, задиристым и хулиганистым. Любимой его забавой было запрыгивать на поезда и прыгать с них. На войне эти качества очень даже пригодились: Иван Михайлович пошел в разведку. Специализировался он на взятии «языков». Брал их десятками, профессионально, без лишнего шума. Вся грудь у него была в орденах. Матери старался писать он аккуратно. И вдруг, в самом конце войны, в апреле, – как в рот воды набрал: ни слуху ни духу. Уже отгремел победный салют 9 мая, уже возвращаться стали воины-победители, а от Ивана нет вестей. Приходит Варвара Степановна к преподобному Серафиму со слезами: «Батюшка, скажи мне прямо: жив ли мой Ванька али мертв?» И преподобный Серафим ей ответил: «Жив он, жив. Но сейчас он в чужой стране. И был он между жизнью и смертью». И вдруг возвращается Иван. И рассказывает: когда брал он своего последнего «языка», уже в Австрии, немцы подорвали здание, в котором они были. К счастью, товарищи вытащили его из-под развалин. Но несколько суток в госпитале был он между жизнью и смертью. Насилу выходили его врачи. Но, наверное, вряд ли это было возможно без помощи свыше. От милостивца нашего, святителя Николая. И от молитвы преподобного Серафима Вырицкого. Чудесная помощь и явления Богородицы на войнеКак говорили ветераны Великой Отечественной, да и воины, прошедшие через горнило других военных конфликтов, «на войне и в окопах атеистов […] Как говорили ветераны Великой Отечественной, да и воины, прошедшие через горнило других военных конфликтов, «на войне и в окопах атеистов не бывает». Многие советские солдаты после войны пополнили ряды духовенства или стали насельниками монастырей. Иные не пошли так далеко, но навсегда в своих сердцах сохранили веру в Бога и твёрдое убеждение, что именно Господь или Матерь Божия уберегли их от смерти. матерь Божия сама испытала боль утраты, когда Её сын, Богочеловек Христос был на кресте. тогда ещё позорном, лишаем жизни. Поэтому Она так живо откликается на молитвы матерей о своих чадах и так скоро приходит к ним на помощь в минуту опасности. Некоторые случаи помощи Богородицы и явления Её воинам на поле боя представляем вниманию читателей: Явление на Курской дуге «Мой дядя видел во время войны Матерь Божию, — это было на Курской дуге. Она явилась на небе, указала рукой в сторону немцев, как бы обозначая направление нашего наступления. Вся рота это видела — и все упали на колени, все уверовали и сердечно молились Пресвятой Богородице. А война с того дня потекла, действительно, в другом направлении — русские стали наступать. Так мой дядя-фронтовик стал верующим…» — вспоминал один из наших современников в книге «Православные чудеса XX века» «А ты Мне еще всю жизнь свою служить будешь!» В молодости он был неверующим человеком. Когда началась Великая Отечественная война, его, офицера, призвали на фронт. На прощание мать дала ему иконку Божией Матери и завещала: «Сынок, когда тебе будет трудно, достань иконку, помолись Богородице — Она тебе поможет!» Материнское напутствие не изгладилось из памяти: согревало, вселяло надежду. Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в лесу, был ранен. С трех сторон немцы, с четвертой — вязкое болото. Тут-то и вспомнил он материнский наказ. Поотстал немного от своих, достал иконку и, как мог, стал молиться: «Богородица Дева, если Ты есть — помоги!» Помолился и возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка, обращается к ним: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку покажу!» И вывела всех по тропочке к своим. Отец Алипий отстал опять и говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как тебя и отблагодарить!» А «старушка» ему отвечает: «А ты Мне еще всю жизнь свою служить будешь!» — и пропала, как будто и не было. Тут-то и вспомнил он прощальное материнское напутствие, тут только и понял он, что это была за «старушка»! И слова те оказались неложными: действительно, и служил он потом всю жизнь Божией Матери — долгие годы был наместником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Так рассказал о себе наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (Воронов). Плач Богородицы — рассказ фронтовика Место, где мы сидели в окопах, казалось каким-то особенным. Словно кто-то помогал нам: немцы атаковали нас превосходящими силами, а мы их отбрасывали, и потери у нас были на удивление небольшими. А в тот день бой был особенно жестоким. Вся ничейная полоса покрылась телами убитых — и наших, и немцев. Бой стих только к вечеру. Мы занялись, кто, чем в ожидании, когда нам ужин привезут. Я достал кисет, закурил, а земляк мой, Иван Божков, отошел в сторону. Вдруг вижу: Божков высунул голову над бруствером. — Иван, — кричу, — ты что делаешь? Снайпера дожидаешься? Божков опустился в окоп — сам не свой. И говорит мне тихо: — Петя, там женщина плачет… — Тебе показалось, откуда тут женщине взяться? Но когда со стороны немцев стихла «музыка», мы услышали, что где-то и вправду плачет женщина. Божков надел на голову каску и вылез на бруствер. — Там туман клубится, — говорит он нам. — А в тумане по ничейной полосе в нашу сторону идет женщина… Наклоняется над убитыми и плачет. Господи! Она похожа на Богородицу… Братцы! Ведь нас Господь избрал для этой памятной минуты, на наших глазах чудо совершается. Перед нами святое видение. Мы осторожно выглянули из окопа. По ничейной полосе в клубах тумана шла женщина в темной и длинной одежде. Она склонялась к земле и громко плакала. — А немцы тоже на видение смотрят. Вон их каски над окопами торчат… Да, тут что-то не так. Смотри, какая Она высокая, раза в два выше обычной женщины… Господи, как же Она плакала, прямо в душе все переворачивалось! Пока мы смотрели на видение, странный туман покрыл большую часть ничейной полосы. «Надо же, будто саваном погибших укрывает…» А Женщина, так похожая на Богородицу, вдруг перестала плакать, повернулась в сторону наших окопов и поклонилась. — Богородица в нашу сторону поклонилась! Победа за нами! — громко сказал Божков. Женщина с двумя воинами в старинных доспехах — рассказ фронтовика В одном из боев он был контужен и остался лежать на земле под мертвыми телами своих боевых друзей. Когда очнулся, увидел поразившую его картину: по полю ходила женщина с двумя воинами в старинных доспехах. У воинов в руках находились чаши. Женщина что-то брала из чаш и вкладывала в рот некоторых из лежащих на земле солдат. Подошла к раненому, а у него нет сип подняться, хочет крикнуть, а не может. — А этот трус, — сказала женщина и пошла дальше. Непонятно, откуда у него силы взялись, приподнялся и закричал: — Я не трус, помогите. — Посмотрим, — ответила женщина, — найди Евангелие на славянском языке и всегда носи его с собой — тогда вернешься домой живым. Наши войска уже отошли далеко, и ему пришлось выбираться из окружения. В ближайшем селе он нашел в брошенном доме Евангелие на славянском языке и спрятал его на груди. Когда вышел из окружения, естественно, попал в штрафную роту и почти до конца войны воевал вместе со штрафниками. Евангелие зашил в одежду и постоянно носил с собой. В каких только переделках не побывал, штрафников посылали в самые безнадежные места, в прорывы и т.д. Бывало, что после боя оставалась в живых половина подразделения — и он среди них; бывало, оставалось четверо — и он среди них, а бывало, что оставался в живых он один. И все же прошел по дорогам войны до победы и вернулся домой. Седой Киселёв — рассказ священника По-настоящему верующим человеком о. Олег (Олег Викторович Киселев) стал в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году, уже пройдя немало фронтовых дорог, он оказался под Ленинградом. Немцы отходили с тяжелыми боями и большими потерями, но дрались ожесточенно. Мы стреляли по танку, но он двигался вперед: земля осыпалась, танк ревел, заглушая все. Я оказался под ним, гусеницы почти задевали меня, окоп оседал, оседал также и танк. Меня засыпало землей, танк ворочался надо мной. Вот-вот буду раздавлен. Не страх охватил меня, а беспредельный ужас! И тогда вспыхнула в моем сознании молитва: «Господи Иисусе, Сыне Божий! Пресвятая Богородица! Спаси и помоги!» Всю свою душу вложил я в эту неистовую мольбу к Богу и Пресвятой Богородице. В сотые доли секунды пронеслась вся моя жизнь передо мною, но особенно четко пронзила мысль о Боге, моей вине перед Ним. А далее… Танк, проутюжив окоп, пополз дальше, но был подбит — об этом я узнал позже. Меня солдаты отрыли, вытащили, влили в горло водку — и я быстро пришел в себя. Подошел лейтенант и удивленно воскликнул: «Ребята! Взгляните на Киселева, он весь седой!» Действительно, за несколько минут, проведенных под гусеницами танка, я поседел. Там же, на поле боя, дал я обет Господу Богу и Пресвятой Богородице стать после войны священником, что и исполнил. Чудеса на войне: реальные истории спасения, рассказанные участниками
28 января 1942 едва не стало последним днем его жизни. В ходе зимнего контрнаступления под Москвой, экипаж его танка БТ-7 неожиданно на северо-восточной окраине села Вельмежа наткнулся на немецкую батарею 105-миллиметровых орудий. Выстрелив по ним пару раз, танк на большой скорости ринулся на батарею и, передавив несколько пушек, был подбит. Слышу: «С-серега!» Это Соболев. Я инстинктивно отклонился в сторону. Второй фашист промахнулся по мне прикладом. А Соболев не промахнулся, ударил его по стальной каске так, что приклад расщепился. Я вскочил, шарю руками винтовку, а в глазах муть, шатаюсь как пьяный. Не знаю, сколько времени прошло, пока стал соображать. Вижу, рядом стоит Соболев, разглядывает приклад своей винтовки. Рожь кругом потоптана, вперемешку лежат убитые — наши и противника. Тишина». — А вы под счастливой звездой родились, товарищ майор, — полушутя полусерьезно сказал он. — Да? Не уверен. С чего это вы взяли? — Осколок зенитного снаряда пробил пол в кабине прямо перед вашим сиденьем, а вас даже не задело. — Ну, может быть, вы и правы, — засмеялся я». Войсковой разведчик Георгий Егоров прошел Сталинградскую и Курскую битвы, но один бой остался в его памяти навсегда. Тогда 14 разведчиков ушли в ночной рейд за «языком», а вернулись лишь двое. Сам Егоров, который делал еще только первые шаги в разведке, и командир Иван Исаев. Остальных скосил немецкий пулеметчик, которого они с Исаевым и скрутили, получив за это медали «За отвагу». И еще снится, как я бегу на амбразуру. А ребята впереди меня падают и падают. И я знаю, что вот-вот должен упасть и я. Но бегу и не падаю. Тридцать с лишним лет бегу и каждый раз жду, что вот теперь-то и я упаду и мне от этого станет сразу легче — я буду лежать рядом со всеми. Но каждый раз снова и снова преодолеваю то расстояние до дзота и каждый раз вижу, как падают и падают ребята. « А вот исповедь другого разведчика, который, так же, как Егоров, начинал воевать под Сталинградом. Леонид Вегер ушел на фронт сразу после школы. В 1943 году был ранен, стал инвалидом II группы. После войны работал ведущим научным сотрудником института экономики РАН. Итак, февраль 1943 года, ночь, заснеженное поле нейтральной полосы и очередная отчаянная попытка добыть «языка». Внезапно Вегер вспоминает, что перед ними – минное поле. «Идти ночью по минному полю — не сахар. Ужас сковывал меня при каждом шаге. Как только я делал шаг и выносил ногу вперед, меня охватывал страх. Я почти физически ощущал, как это произойдет. Что может быть страшнее для восемнадцатилетнего юноши? Говорят, в окопах не бывает атеистов. Вот и Кобылянский, член ВКП (б), в самые страшные мгновения инстинктивно обращался к Богу – как это было во время жуткой бомбежки, после того, как он чудом избежал плена: «Прижавшись всем телом к сырой траве и уткнувшись в нее лицом, я «защитил» голову ладонями, плотно зажмурил глаза и, неверующий, молча молился неведомым высшим силам: «Сохраните мне жизнь! Ведь я еще так молод, не имею детей, и если погибну сейчас, никакого следа от меня на Земле не останется!» Подобное случалось несколько раз, всегда в критических ситуациях, когда от тебя ничего не зависит, ты беззащитен, бессилен, обречен на бездействие и покорно ждешь своей участи». Протоиерей Рафаил Маркелов ушёл на фронт 1943 году в 17 лет. Туда, где с первого месяца войны воевал его отец. Мать к тому времени давно умерла, а младший брат и сестры попали в детский дом. Воевал он снайпером в 208-й стрелковой дивизии. 6 августа 1944 при освобождении Латвии 18-летнего новгородского паренька тяжело ранило из миномета, и в строй он уже не вернулся. На всю жизнь остались в ноге три осколка. К Богу обращались постоянно, и не только он, но и его сослуживцы. «Молиться мы так уж не молились, но все же, в основном, люди были верующие, я так думаю. Во всяком случае, крестики очень многие носили, да и «Господи помилуй» постоянно слышалось. Особенно когда в атаку идти, перед боем. Хотя и не разрешалось это, но все равно всегда ведь найдешь место, где помолиться: на посту стоишь и молишься про себя, просишь у Бога, что тебе нужно. Никто не помешает». Но, как говорится, на Бога надейся да сам не плошай. На вопрос, что было самым трудным на войне, отец Рафаил ответил: «Уберечь себя, остаться живым. Там ведь как? Дело делай, а по сторонам-то не зевай, смотри в оба, а то пропадешь». Что такое чудо, он, четырежды раненный и контуженный, знал не понаслышке. Вот лишь один день из его жизни на передовой – 16 июля 1943 года. К вечеру в том же составе они возвращались обратно. «Вдруг неожиданный рев, какой-то шлепок. Лицо и грудь забрызгало чем-то теплым и мокрым. Инстинктивно падаю. Все тихо. Протираю глаза — руки и гимнастерка в крови. На земле лежит наш старичок. Череп его начисто срезан болванкой. Молодой стоит и отупело смотрит вниз, машинально стряхивая серо-желтую массу с рукава. Потом начинает икать… Беру документы убитого и веду паренька под руку дальше. Наверное, у него припадок… Сдал фельдшеру». . Все они были на волосок от смерти. Что помогало выжить? Чудо? Воинское умение? Случай? Воля Божья? А может, всё вместе? Думать, спорить и сомневаться будут всегда. Одно известно: пройдя через горнило страшных боев, эти люди остались в живых. Хотя рядом гибли их товарищи. О павших помнит и рассказывает каждый из наших героев. О тех, ушедших от нас. Кому посвящено одно из самых пронзительных стихотворений, написанное военкором подполковником Александром Твардовским. На заставке: фото Семена Фридлянда Чудеса на войне. Небесное спасение
Мы обращаемся к нашим читателям с просьбой начать сбор воспоминаний и рассказов о чудесах на войне. Расспросите ваших родных, соседей, знакомых о том, что известно им о тех явлениях, которые обычным порядком объяснить невозможно, о легендах, которые передавались из уст в уста, о сказках, тогда бытовавших, связанных с именами святых. В журнале и на сайте мы открываем рубрику «Чудеса на войне». Явление преподобного Сергия Это было зимой 1942 года, в середине или конце января. Однажды ясным солнечным днём жители небольшого села Кузовка Тульской области стали свидетелями удивительного явления: над железной дорогой за селом по небу, в 20–30 метрах над землёй, с северо-востока, вслед за уходящим фронтом, медленно шествуя по воздуху с посохом в руке, двигалась человеческая фигура. Солнце освещало её силуэт, и все жители, выбежавшие из домов, – и верующие, и те, кто относился к вере скептически, – увидели, что это седой старец, вероятно, монах. Он шёл, не обращая внимания на людей, многие из которых крестились, иные стояли молча. Старец всё продолжал идти вперёд. В какой-то момент он остановился, положил посох (на воздух, как будто там была земля!) и, сотворив земной поклон, снова взял посох в руки и продолжил своё шествие на запад. Фигура старца стала постепенно уменьшаться, пока не превратилась в маленькую точку, на которую было больно смотреть из-за солнца, светившего прямо в глаза. Чудесное явление длилось более часа. Размышляя над увиденным чудом, которое произвело огромное впечатление, люди пришли к выводу, что это был преподобный Сергий – небесный заступник края, по молитвам которого в этих же местах некогда одержал победу святой Дмитрий Донской. Шёл он с северо-востока, где лежит Свято-Троицкая лавра преподобного Сергия, оттуда, где некогда стоял стан русских воинов во время битвы на поле Куликовом. И двигался он на запад, вслед за уходящим фронтом, молясь за русский народ и за русских воинов. Плач Богородицы Место, где мы сидели в окопах, казалось каким-то особенным. Словно кто-то помогал нам: немцы атаковали нас превосходящими силами, а мы их отбрасывали, и потери у нас были на удивление небольшими. А в тот день бой был особенно жестоким. Вся ничейная полоса покрылась телами убитых – и наших, и немцев. Бой стих только к вечеру. Мы занялись кто чем. Я достал кисет, закурил, а земляк мой, Иван Божков, отошёл в сторону. Вдруг вижу: Божков высунул голову над бруствером. «Иван, – кричу, – ты что делаешь? Снайпера дожидаешься?» Божков опустился в окоп сам не свой. И говорит мне тихо: «Петя, там женщина плачет. » «Тебе показалось, – я ему. – И откуда тут женщине взяться?» Но когда со стороны немцев стихла «музыка», мы услышали, что где-то и вправду плачет женщина. Божков надел на голову каску и вылез на бруствер. «Там туман клубится, – говорит он нам. – А в тумане по ничейной полосе в нашу сторону идёт женщина. Наклоняется над убитыми и плачет. Господи! Она похожа на Богородицу. Братцы! Ведь нас Господь избрал для этой памятной минуты, на наших глазах чудо совершается! Перед нами святое видение. » Мы осторожно выглянули из окопа. По ничейной полосе в клубах тумана шла женщина в тёмной и длинной одежде. Она склонялась к земле и громко плакала. Тут кто-то говорит: «А немцы тоже на видение смотрят. Вон их каски над окопами торчат. Да, тут что-то не так. Смотри, какая она высокая, раза в два выше обычной женщины. » Господи, как же она плакала, прямо в душе всё переворачивалось! Пока мы смотрели на видение, странный туман покрыл большую часть ничейной полосы. Мне подумалось: «Надо же, будто саваном погибших укрывает. » А женщина, так похожая на Богородицу, вдруг перестала плакать, повернулась в сторону наших окопов и поклонилась. «Богородица в нашу сторону поклонилась! Победа за нами!» – громко сказал Божков. Подсказал Господь И сколько ещё раз спасал Господь от верной гибели! Из книги протоиерея Валентина Бирюкова
Ночью как-то на небе явились славянские буквы, из которых я разобрал только слово «БОГ». Это было какое-то озарение, я задумался о смысле бытия, о том, доживу ли до конца войны, о том, что меня ожидает, – и так простоял всю ночь, не замечая времени. Под утро пришёл в дом, и тут появляется старичок, русский с виду, благообразный, в простой одежде. Спросил его: «Ты откуда, дедушка, и как сюда попал?» Старичок ответил так: «Ты задумался о смысле жизни и о смерти – завтра встретишься с ней лицом к лицу, но не умрёшь, а впоследствии послужишь мне. Тебя до конца войны ни одна пуля не тронет, даже ноготь не зацепит – по молитвам твоей матери». Затем старичок начал обличать меня в грехах, вспомнил всю мою жизнь. Упрекнул меня, что не исполнил обещания, данного матери, не причастился, а только исповедовался, уходя на фронт. «За это ты долго ещё не увидишь её», – сказал старец. Я спросил: «Как тебя зовут, дедушка?» – и наклонился, чтобы надеть сапоги, а когда поднял голову, то был уже один. Пошёл по дому, заглянул за шкаф, затем спросил часового, не входил ли кто в дом и не выходил ли только что. Часовой ответил, что никого не видел. По молитвам матери А вот свидетельство художника Дмитрия Бучкина, ребёнком пережившего ленинградскую блокаду: «Однажды вечером отец почувствовал себя особенно плохо и отказался идти в бомбоубежище. «Лучше дома погибнуть, – сказал, – чем быть заваленным в подвале». Раз отец не идёт, мы тоже остались дома и пересидели бомбёжку. И что же? На следующий день оказалось, что на бомбоубежище, где мы обычно прятались, рухнул дом и засыпал его наглухо. Было это в самую тяжёлую пору блокадной зимы, и расчисткой завала никто не занимался. Люди в этом бомбоубежище погибли, а мы остались живы. Господь спас – по молитвам нашей мамы. Во время блокады неверующих не было. И моя мама достала припрятанные иконы и каждый день молилась. Все уповали на Господа, на Его милость». |





 Герой Советского Союза Петр Трайнин воевал механиком-водителем с 1941 года. Прошел с боями от стен Москвы до Праги. Многократно таранил вражеские машины, горел в танке и не раз оставался единственным выжившим из всего экипажа.
Герой Советского Союза Петр Трайнин воевал механиком-водителем с 1941 года. Прошел с боями от стен Москвы до Праги. Многократно таранил вражеские машины, горел в танке и не раз оставался единственным выжившим из всего экипажа.




 Более 70 лет отделяет нас от Великой Победы. Её достижению способствовали и вера в Бога, и провидение. Свидетельств о чудесных явлениях во время войны собрано немало (сегодня мы публикуем их маленькую толику), а нам дороги все: и рассказы о событиях того времени, и факты, и легенды, и сказки, и мифы. Ведь в них отразились страшное и героическое время, вера и верования народа, выдержавшего тяжелейшие испытания.
Более 70 лет отделяет нас от Великой Победы. Её достижению способствовали и вера в Бога, и провидение. Свидетельств о чудесных явлениях во время войны собрано немало (сегодня мы публикуем их маленькую толику), а нам дороги все: и рассказы о событиях того времени, и факты, и легенды, и сказки, и мифы. Ведь в них отразились страшное и героическое время, вера и верования народа, выдержавшего тяжелейшие испытания.  Это был Угодник Божий Николай
Это был Угодник Божий Николай