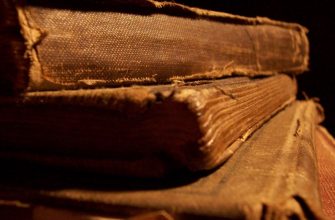Раскрыта тайна молитвы “Отче наш”: сложно поверить
Молитва Отче наш — это не просто главные слова для любого христианина. В этих строках содержится тайный смысл, понимание самого Бога и всего, что нас с вами окружает. С текстом этой молитвы связано много интересных фактов и даже тайн, которые дано постичь только истинному верующему.
История молитвы
«Отче наш» — это единственная молитва, которую даровал нам сам Господь. Считается, что она была дана человечеству Христом, а не была придумана ни святыми, ни обычными людьми, и именно в этом состоит ее великая сила. Текст самой молитвы звучит так:
Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Эти слова отображают все человеческие нужды, чаяния и стремления к спасению души. Смысл и тайна этой молитвы состоит в том, что она является универсальным божьим словом, которое можно использовать как для благословения своего пути, так и для защиты от нечисти, от болезни и от любой беды.
Истории спасения
Многие христианские деятели говорят, что чтение «Отче наш» в самые страшные моменты жизни способно помочь избежать ужасной участи. Главная тайна этой молитвы состоит в ее силе. Бог спасал многих людей, находящихся в опасности, читающих «Отче наш». Безвыходные ситуации, которые ставят нас перед лицом смерти — это наилучший момент для произнесения могущественных строчек.
Один из ветеранов Великой Отечественной Войны, некий Александр, писал письмо своей жене, которое ей не дошло. Видимо, оно было потеряно, поскольку нашлось в одном из мест дислокации войск. В нем мужчина говорил, что был окружен в 1944 году немцами и ждал своей гибели от рук противника. «Я с раненой ногой лежал в доме, услышал стук шагов и немецкий говор. Я понял, что сейчас умру. Наши были близко, но рассчитывать на них было просто смешно. Я не мог пошевелиться — не только потому что был ранен, но и потому что оказался в тупике. Ничего не оставалось, кроме как молиться. Я готовился к смерти от руки противника. Они увидели меня — я испугался, но не перестал читать молитву. У немца не оказалось патронов — он начал о чем-то быстро говорить со своими, но что-то пошло не так. Они резко кинулись бежать, бросив мне под ноги гранату — так, чтобы я не смог до нее дотянуться. Когда я прочитал последнюю строчку молитвы, то понял, что граната не разорвалась».
Таких историй мир знает немало. Молитва спасала людей, которые встречали в лесу волков — они разворачивались и уходили прочь. Молитва ставила на праведный путь воров и разбойников, которые возвращали украденные вещи, прилагая записки о раскаянии и о том, что их надоумил на это Бог. Этот священный текст спасет от холода, огня, ветра и от любой напасти, которая может угрожать жизни.
Но главная тайна этой молитвы познается не только в горе. Читайте «Отче наш» каждый день — и это наполнит вашу жизнь светом и добром. Благодарите Бога этой молитвой о том, что вы живы, и вы всегда будете здоровы и счастливы.
Новое видео:
Молитва Отче наш история, содержание, смысл
Молитва «Отче наш» особая, с нее началась история христианского богослужения. Конечно, важно знать ее содержание и смысл, ее место в богослужении, как оно менялось и менялась ли, как исполнялась, какой несла смысл.
Известно, что эту молитву дал своим ученикам Сам Иисус Христос, когда они обратились к Нему с просьбой научить их молитве (Мф.6,9-13,Лк.11,1). Это единственная молитва, которую Он оставил.
В разные периоды и в разных местах она звучит по-разному. В I веке она была единственной, ею освящались утро, день, вечер, с нее начиналась евхаристия. Она была центром богослужения, одна молитва у ранних христиан (св. Игнатий: «да будет у Вас одна молитва…») – это и есть молитва «Отче наш». Все остальные молитвы только присоединялись к ней.
С исполнением молитвы тоже своя история. Песнопение молитвы изначально было общим, всем народом. Только позднее выделился хор, который стал заместителем общенародного пения «порядка ради». Этот порядок, однако, очень медленно и с трудом входил в древнюю церковь, но, завоевав богослужение, оно вытеснило первоначальный способ исполнения «Отче наш», в котором каждый вкладывал самое ценное – личное и интимное.
Может быть, поэтому у меня самые сильные ощущения от молитвы связаны именно с моментом ее исполнения перед причастием. Я не знаю, как это объяснить, откуда вдруг это ощущение, словно возвращаюсь на 2 тысячи лет назад, когда все именно так и происходило:
на протяжении всей службы, когда не было ни певчих, ни псаломщиков, не было разделения на тех, кто в алтаре и кто перед ним, все были святыми. Есть, наверное, память веры, хранящаяся в самом строе богослужения, которая дает о себе знать в эти мгновения.
Даже те, кого презрительно-уничижительно батюшки называют «захожанами», подпевают. Молитва идет издалека, от бабушек, от корней, от первых христиан. Здесь она обретает надличностный, народный смысл, потому что «едиными усты и единым сердцем», сохраняя чаяния каждого в голосах, вливающихся в этот хор.
В этот момент перехватывает горло, я люблю всех, кто поет вместе со мной. Не знаю, все ли испытывают такое волнение, наверняка не все: кто-то уже привык к храму, кто-то уже не воспринимает это корявое песнопение за пение и соборность, а поет, потому что так положено.
Певчие глухо ропщут, а иногда и заменяют народ, не выдерживая фальшивости нот, своим музыкально правильным исполнением. Кто-то не знает и истории песнопений в храме, когда в ранний период христианства отдельного от народа хора не было, а пели все вместе, потому что все были «род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел…»(1Пет; 2:5, 9-10).
За этим маленьким эпизодом кроется долгий богословский спор: что есть церковь? Для меня это народ, объединенный любовью и верой в Бога-Троицу. Но не будем вдаваться в подробности спора, немало копий сломано, да и высказывать свою точку зрения в церкви не принято и не безопасно. Все больше подчинение, все больше наказания и все меньше любви.
Но что произошло, то произошло, однако эти островки раннехристианского богослужения, как воспоминания далекого детства, задевают за живое, открывая навстречу самое потаенное спустя и две тысячи лет.
Но вернемся к тексту молитвы. Итак: Отче наш, Иже еси на небесех, да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. (Мф.6,9-13,Лк.11,1).
Существует много толкований на эту молитву, но мне ближе всего толкование Антония Сурожского, священника, эмигрировавшего в Париж вместе с родителями еще в отроческом возрасте после революции 1917 года, ставшего в зрелом возрасте тайным монахом, позднее –священнослужителем.
Заканчивается молитва «Отче наш» – славословием Бога-Троицы, которое благословляет грешника на этот путь и потому произносится всегда от имени Самого Господа только священником. Некоторые толкователи говорят, что это поздняя приписка к молитве, которая уже шла от установившегося строя богослужения.
Суть молитвы проста, если вспомнить слова Иисуса, которыми он ответил на вопрос законоучителя: «Учителю, кая заповедь болши есть в законе? Иисус же рече ему: возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслею твоею. Сия есть первая и болшая заповедь.
Вторая же, подобная ей: возлюбиши искренняго твоего яко сам себе. В сию обою заповедию весь закон и пророцы висят» (Мф. 22; 36-40). В нагорной проповеди Господь учит не уподобляться в молитве язычникам, которые молятся широко, многословно, говорящих много и пространно, а молиться кратко и глубоко, давая за образ молитву «Отче наш».
Первая часть молитвы «Отче наш» относится к первой части наиважнейшей заповеди («Возлюби Господа Бога твоего…»), фактически являющейся первой заповедью из десяти, знакомых нам. Она взята из Ветхого завета (Втр. 6; 4-9) и называется еврейской «шемой».
Шема была дана евреям Богом на Синайской горе и читалась она евреями утром, вечером и при различных обстоятельствах, высекалась на косяках домов и складывалась в особые коробочки со словами из Торы.
Меня всегда интересовала вторая часть, потому что никто не признается в открытую, кроме разве что святых, достигших духовного совершенства, в нелюбови к Богу. Поэтому, думается, в конечном счете, любовь к Богу всегда воплощается в любви к ближнему, которого любить всегда тяжелее, потому что он вблизи со всеми своими недостатками, ошибками, соблазнами и «кишками».
И вот относительно себя, Христос говорит, что есть только три важных в этом мире вещи: иметь хлеб насущный, уметь прощать и необходимость избегать соблазнов, какими бы привлекательными они ни были.Он не просто перечисляет того, что важно уметь делать, чтобы избежать скорбей и страданий. Хотя и само по себе перечисление этих вещей очень значимо.
В этой части молитвы Иисус Христос устанавливает границы, начиная с хлеба насущного и кончая просьбой избавить нас от лукаваго. Хлеба просишь –проси только насущного, не больше; просишь оставить обиды – проси в той мере, в какой сам можешь оставлять другому – не больше;
просишь не вводить в искушения – не проси помощи в этом самостоянии, умей сам господствовать собой и над грехом, выдерживай эту борьбу; просишь избавить от лукаваго – умей сам видеть за красивой оберткой обман и соблазн.
Поскольку в двух последних прошениях речь идет о соблазнах и умении противостоять им, часто они объединяются в одно прошение. А для меня эти прошения самые важные, потому что отказ от соблазнов означает, что у тебя есть смысл, своя задача, что ты знаешь, зачем живешь и ты умеешь постоять за свою мечту и свой путь.
Это искусство и вершина пути каждого верующего. Когда Каин перед убийством Авеля сильно огорчился, что Бог призрел на дары брата и поник головой, Бог сказал ему: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт. 4; 7).
Вот в этом суть – «ты господствуй».
тогда лицо твое – не мрачное и поникшее, а светлое и открытое, потому что у тебя есть то, ради чего стоит жить и верить. Надо бодрствовать, говорит Господь, в этом сила верующего. Потому что «С Богом я все могу».
Вторая часть молитвы «Отче наш» – гимн человеку, который может выдержать все испытания, если знает зачем. Именно поэтому вторая часть – про каждого из нас, каждый молится, произнося «Отче наш», дай силы преодолеть все, силы, выдержать все испытания и выйти победителем.
И последнее. Молитва идет не от себя лично, а от нас всех, ею мы молимся за всех, не только верующих, потому она должна исполняться именно соборно, как сегодня мы молимся перед причастием. Мы просим у всех прощения, мы просим сил принять и пройти достойно все испытания, мы ищем путь любви к Богу и ближним.
Размышления о молитве «Отче наш»

Кто только не толковал ее?! С изучения этой молитвы можно начинать изучение христианства. Ею же можно и заканчивать. Она, кажется, известна чуть ли не всем вообще. И воистину эта молитва есть «сокращенное Евангелие».
Если есть лукавый
И я бы сегодня провел речь об этой молитве с ее конца. Оттуда, где «лукавый». Он ведь именно «лукавый», то есть «хитрый», «двусмысленный», «способный к обману». Сегодня он силен. Его власть, замешанная на открытом сатанизме одних, на наркотиках и разврате других, на безбожных теориях, на похоти власти и прочем, позволяет предстать диаволу в образе существа сильного. В современном сознании он могуч и уже не скрывается. В кажущемся благополучным XIX веке Гоголь увидел то, что выразил в короткой фразе: диавол вышел в мир без маски. И вот сегодня он созывает слуг своих на последнюю битву и бывает так ослепителен в своих видимых успехах, что способен поколебать даже избранные души. Кому это не открыто? Кто этого не заметил? Кто не заметил, тот и не молится.
Изначально он просто хитрец. Он змей, который «хитрее всех зверей полевых». Его сила рождена обманом. И это легко понять по аналогии с некоторыми богачами, чья власть изначально родилась из обманов и махинаций, а лишь потом обросла виллами, яхтами, личной охраной и политическим влиянием. Вначале – просто обман.
Современный человек знает о лукавом больше, чем о Господе
Современный человек знает о лукавом больше, чем о Господе. Знание это не идентифицировано. Оно просто всосано в кровь с молоком матерей и телевизионными новостями. Любой дикарь прежних эпох удивился бы нашей бытовой гордости и безбожию. Родившиеся в самые лютые времена, мы совсем не чувствуем их лютости и ошибочно считаем себя счастливчиками на том основании, что у нас есть мобильный телефон, а у Сократа, предположим, его не было. Впрочем, даже имя Сократа мало кому известно в эпоху мобильных телефонов.
Многие никогда не призвали бы Отца Небесного в помощь и заступление, если бы не услышали на затылке горячее дыхание лукавого, желающего затащить всего человека целиком в огонь, который не погаснет. Вот почему я думаю, что знакомство с молитвой «Отче наш» (жизненное, а не только теоретическое знакомство) облегчается наблюдением явного и умножающегося присутствия диавола в мире. Раз есть лукавый, об избавлении от которого нужно в молитве просить, значит, есть и все остальное. Раз реален этот обманщик, способный погубить человека и жадно желающий этого, то, значит, есть и Отец в небесах, и Царство Его, и всё прочее. Так, от противного, осатаневший, но образ Божий не утративший человек может прийти к молитве. Мысль проста: «Есть лукавый. Я вижу его следы. Я чую почти везде смрадное его дыхание. Значит, должен быть и Отец, способный защитить и избавить. Отче наш, да святится имя Твое. ».
Немного об Отце и безотцовщине
Молитве мешают самые необычные вещи. Самые бытовые и неожиданные. Например, безотцовщина (без отцов, которые только и сумели, что зачать, но не удержались в семье, чтобы воспитывать, выросло и еще вырастет великое множество людей). Или глубокая травма души от того, что отец был домашним деспотом. Одна женщина спросила митрополита Антония: «Кто такой Бог?» Он ответил ей: «Это очень просто. Он – наш Отец!» На что женщина вскричала: «Только не это! Только не это!» Митрополит был поражен этой реакцией и пожелал разобраться. Оказалось, что отец этой дамы был реально ужасен. Пусть останутся за скобками подробности того, бил ли он мать, изменял ли ей, понуждал ли ее к абортам, держал ли детей в паническом страхе. Детали нам не важны. Важно то, что священное слово «отец» для той женщины обросло такими жуткими ассоциациями, что представить себе Бога в виде отца она не могла ни за что.
Сам митрополит Антоний имел противоположный опыт. Его отец был мудрым и заботливым человеком, оставившим глубокий след в душе своего сына. Для Антония не было никакой проблемы в том, чтобы перенести образ земного отца на мысль об Отце небесном. Но оказалось, что это счастье дано не всем.
Так мы с легкостью высказываемся о вещах, очевидных для нас, в полной уверенности, что эти вещи очевидны для всех людей вообще. И потом с большим удивлением обнаруживаем, что очевидное для нас сомнительно одним и неприемлемо для других. Дело может касаться также и молитвы. Насколько же велика ответственность отца! Если он негоден или ничтожен, то как потом молиться его ребёнку? Как верить, что на небе у тебя есть вечный Отец, если даже на земле ты на временного отца смотреть не можешь?
Что поют на небесах
Однажды меня заинтересовал вопрос: будем ли мы читать-петь молитву «Отче наш» на небесах (если, конечно, Господь нас туда допустит)? Я стал думать. И понял вскоре, что почти все прошения этой молитвы – для земли и только для земли. На небе этим просьбам и словам места нет. Судите сами: какой смысл говорить «да приидет Царствие Твое» там и тогда, где и когда ты уже в Царстве? Точно так же просить о том, чтобы воля Божия была одинаково исполняема на Небе и на Земле, нужды не будет, ибо «Бог будет всяческая во всем». О каких «должниках» можно будет вести речь в Небесном Царстве? Кому и что нужно будет еще отпускать? Избавления от каких искушений нужно будет просить? Одним словом, пройдясь по всему тексту молитвы, я понял, что только одно прошение сохранится точно. А именно: «Да святится имя Твое!» Вся молитва словно сократится до одного начального призыва: «Отче наш! Да святится имя Твое!» И потом сразу – «Аминь!»
Откровение Иоанна Богослова изображает Небесную жизнь как царство молитвы
Вот это можно и нужно будет произносить всем спасенным. Остальное, думаю, отойдет за ненадобностью, как исполнившееся. Так совершенно необходимая во чреве пуповина отнимается от ребенка навсегда, ибо после рождения в мир она уже не нужна. Она свое отработала. Подобным образом молитва «Отче наш» закончит свое земное служение и отойдет от дел, сократившись длишь до одного славословия: «Да святится имя Твое!»
Откровение Иоанна Богослова изображает Небесную жизнь именно как царство молитвы. Там совершают литургию: поют, совершают поклоны, воскуряют фимиам и проч. Там есть жертвенник с душами убиенных мучеников под ним. То есть существует подобие небесного святилища и богослужения в нем. Но там никто не читает «Отче наш». Там поют песню Моисея – человека Божия. Там поют (кстати, постоянно поют и ничего уже не читают) нечто очень похожее на наши литургические гимны: «Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати!» – «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава…». И прочее. То есть когда в наших храмах поют Матери Христа «Достойно есть», это вполне в духе Апокалипсиса, в духе Святой Библии. И когда мы на литургии поем «Достойно есть» или Евхаристический канон, то это происходит вполне в духе того откровения, которое видел Иоанн. «Отче наш», повторяю, там никто не читает, потому что эта молитва – живущих на земле.
Хотя у Максима Исповедника есть слова о том, что в молитве «Отче наш» славится Вся Троица, а не только один Отец. Имя Его – это Сын. «Да святится имя Твое» читается в таком случае как «Слава Сыну Твоему». Слава Отца – это Сын. И наоборот: слава Сына – Отец. О Духе же сказано: «Да приидет Царство Твое», ибо Царство Его есть торжество Духа. Раз так (а сомневаться в словах Максима грешно), то молитва славит Единого в Троице Бога, и есть тогда ей место в вечности. Но это лишь подтверждает глубину Евангелия. И тот Ангел Откровения, что летит по небу, держа в руках «вечное Евангелие», подтвердит эти слова. Молитва ведь дана нам из Евангелия. И раз оно вечно, то «Отче наш» в Евангелии тоже прописано в нем навечно. И у нас всегда есть повод смириться перед глубиной однажды произнесенного Слова.
Хлеб
Что до «хлеба», то лучше всего толковать это слово в духе «ежедневной пищи». Однако «Отче наш» – последняя соборная молитва перед Причащением. Люди, готовящиеся принять Небесный Хлеб, поют «хлеб наш насущный даждь нам днесь». Это неслучайно. Раз уж у нас есть хлеб, то должна быть и Евхаристия. Как правило (история тому доказательство и свидетель), где прекращается Евхаристия, там начинается и нехватка телесной пищи. «Насущный хлеб» – это хлеб, соответствующий сущности. А сущность наша двойственна. И просто хлебом, как говорит Христос при искушении в пустыне, мы жить не можем. Нам нужен и обычный хлеб, и слово Божие. Оба вида пищи сущностно нужны. Соединение того и другого дается нам в Евхаристии.
Человек не может только молиться – без еды. Но он не имеет права и есть, не молясь
Евхаристия невозможна без обычного пшеничного хлеба. Сначала он – обычный плод земли, с таким трудом добываемый людьми по данной им от Бога Премудрости. Но слово Божие и молитва Церкви, дыхание Духа и благодарение делают потом земное Небесным. Только так и должен питаться человек. Он не может только молиться – без еды. Пока ему это недоступно. Но он не имеет права и есть, не молясь. Обе стороны существования соединяются и примиряются в Евхаристии, в Преломлении Хлеба. Хлеб Евхаристии становится истинно «насущным», то есть действующим на обе стороны нашего существа. Иначе «просто хлеб» «просто кормит» нашу земную и не главную часть.
Царский склад ума
Мир хочет свести христианство к одной только морали и напрочь лишить христианство мистики. Мистика – это всегда страшно и тревожно. Она, если только где появится, всегда готова утянуть всего человека или хотя бы часть его в какие-то неведомые области, в тайну и ужас. Гораздо легче и безопаснее проповедовать религию морали – для земли и от земли. Даже такое слово, как «Царство», может легко отторгаться от души современного человека. Он ведь у нас сегодня «демократ» до мозга костей, чем несказанно гордится. Но наличие Царя и просьба о наступлении Царства – это совершенно особый настрой ума, предполагающий готовность служить и покоряться. А.Ф. Лосев в «Диалектике мифа» обмолвился, что идея монархии вообще вытекает из православной догматики с неизбежностью. То есть сознание христианина монархично по определению, ведь он – сын Царства. С какими мыслями произносит молитву «Отче наш» человек, не желающий служить никому, но желающий, чтобы ему все служили? Старуха из сказки «О рыбаке и рыбке» не есть ли пример совершенно ничтожного, казалось бы, человека, но таящего в душе сатанинскую гордыню, готовую реализоваться, лишь только выдастся случай? Может ли молиться о пришествии Царства Божия такой человек? Человек, который в таинственной глубине сердца сам хочет быть царем? А если он по привычке молится и произносит положенные слова, то какова цена этих слов?
Прощение – тайна Креста
В области морали молитва Господня богата лишь одной просьбой, в которой скрыто повеление. Молитва увязывает прощение наших грехов (они же – долги) с прощением нами долгов и грехов нашим ближним. Если ты не простишь, ты не будешь прощен. При этом как бы само собой разумеется, что как у тебя есть должники, так и ты должен. Несовершенство падшего мира в кратких словах здесь безошибочно зафиксировано. У нас всегда будут должники. Мы сами всегда (в рамках земной действительности) будем должны и людям, и Богу. И нам нужно научиться прощать и забывать. Если этого не сумеем, не научимся, блаженная вечность улетит от нас как сон.
У нас всегда будут должники. Мы сами всегда будем должны и людям, и Богу
И в этой чисто моральной, казалось бы, проблематике нас опять настырно встречает мистика. Кто не знает, как тяжело, а иногда и невозможно прощать? Просто так простить человека, может быть, и невозможно в принципе. Нужно иметь нечто особое в душе и мыслях, чтобы забывать, прощать и всячески вытеснять из сознания негативные реакции на действия ближних. И что же это? Это тайна Креста Господня!
Сегодня, когда Спаситель умер на Кресте и воскрес из мертвых, молитва «Отче наш» удобно читается, но она трудно и непонятно читалась тогда, когда Христос еще не страдал и не воскрес. Зато теперь, когда Искупление совершено, мы знаем, какой Ценой куплены. Нам, знающим Господа, нельзя злиться и злобствовать. Злопамятство, мстительность и всякое лукавство в житейских делах говорят только об одном: человек не знает Христа. Он до сих пор не прощен, поскольку сам никого не прощает. Или наоборот: Он не прощает, потому что сам не пережил покаяния и не почувствовал прощения. Сердце в нем не изменилось, душа не перевернулась. Он все еще человек мира сего.
Те, кого простили, обычно умеют тоже прощать. Житейская практика здесь увязывается с мистикой, и личный религиозный опыт либо рождает измененное моральное поведение, либо обнаруживает свое отсутствие. Молитва Господня есть молитва человека, чувствующего свою вину, знающего своего Искупителя и стоящего перед лицом Его.
«Не введи нас во искушение»
Одно из свойств ума – знать границы своих возможностей. Гордый глуп, ибо не знает границ. Космос вообще только потому и красив, что имеет соразмерные границы. Хаос же страшен и безобразен, ибо бесформен. Греки это чувствовали лучше всех. Хаос – это гордость. Ум и красота – это мудрая ограниченность. Где-то рядом находится и смирение. Смирение знает о себе правду и не мечтает о себе. Оно красиво. Униженность отталкивает, смирение же влечет к себе.
Именно с умом и умной красотой, а не с забитостью и униженностью, связано смирение. Тяжесть смертного греха лежит на тех, кто связал смирение по смыслу с одной лишь униженностью, и не заметил связи смирения с умным самоограничением. От ума и от веры (веры вообще нет без ума) рождается просьба: «Не введи нас во искушение». Голос знания своей слабости, голос смиренного признания своей уязвимости и ограниченности слышен в этих словах. Сравните их со словами: «Я никого не боюсь», «Я все смогу», «Я никогда не изменю своим принципам и правилам», и вы поймете, как далека гордая самоуверенность от Духа Божия. Дух Божий рождает меру. Мера – это и есть смирение.
Дух Божий рождает меру. Мера – это и есть смирение
Между тем молитву Господню читала как один Церковь первенствующая, Церковь мучеников. Неодолимый в страданиях святой Георгий, несгибаемые в мужестве и терпении святые Варвара и Екатерина, сотни и тысячи других страдальцев произносили от сердца слова: «Не введи нас во искушение». Они признавали за собою слабость и тем самым давали место силе Божией. «Когда я немощен, тогда силен», – говорит Павел, выражая духовный опыт Церкви Христовой. Немощные, но верующие бывают подлинно сильны и способны на невозможное, так как с ними Господь. Гордые дуются как пузырь и лопаются неизбежно, что можно проследить и на истории отдельных личностей, и на истории отдельных цивилизаций.
Отец – наш, общий
А еще мы ничего не сказали о том, что молитва дана не отдельному человеку, а общине. «Отче наш» – это совсем не то же самое, что «Отче мой». Христос имел право так говорить в Гефсимании, и раньше, и когда бы ни захотел. Он – Единородный у Отца. Других Сынов, рожденных из Ипостаси Отца, у Отца нет. Но нам нельзя так молиться. Не будь мы вообще Церковью усыновленных и искупленных, мы молились бы в лучшем случае – «Творче наш». Бог не был бы нам Отцом, но в лучшем случае Творцом, Которого мы признаем. Само взывание «Отче» – уже подарок тем, кто верит в Единородного. И вера эта не дана каждому в одиночку. Вернее, обретенная в одиночку, вера затем повелевает нам собираться вместе.
Откровение подарено не отдельным личностям, а Телу Церкви
Мы – община и Церковь. Откровение подарено не отдельным личностям, а Телу Церкви. Нам нужно молиться вместе. Потому Христос и говорит нам: «Молитесь так»… А далее – «Отче наш» (а не «Мой»). И даже находясь в пустыне, в которой, к примеру, Онуфрий Великий провел 63 года, надо все равно молиться – «Отче наш», а не «Отче мой», ибо одно дело – молитва Христа, а другое дело – молитва простого человека.
Одно дело – Отец наш, и другое – Отец Христов. Он – один и Тот же, но отношения наши и Христа с Ним – разные. Посему по Воскресении Господь сказал: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и Богу Моему и Богу вашему». Христу Бог – Отец по природе, нам – по усыновлению.
Молитва дана Церкви, собранию. Если мы раньше говорили, что можно в личном порядке читать молитву Господню – в транспорте, или на пляже, или перед кабинетом врача, то сейчас мы вынуждены признаться, что лучшим прочтением ее будет прочтение в собрании. Слово «мы» понуждает нас признать, что мы обязаны собираться вместе и молиться одним сердцем и одними устами. И уже получается, что молитву Иисусову удобнее творить всегда и везде в одиночку, в уме или шепотом. А молитву Господню следует возглашать в собрании. Пусть один говорит, а другие слушают и скажут в конце: «Аминь!» Так сказано и о книге Откровения Иоанна: «Благословен читающий и слушающие слова книг и пророчества сего». «Читающий» один, а «слушающих» много.
«Ибо Твое есть Царство, и Сила и Слава»
Вместо послесловия
Молитва Господня переведена на все языки, включая самые малые и исчезающие. Пройти мимо нее невозможно, а найдя ее, невозможно не произносить ее часто в разных ситуациях: утром и вечером, перед едой или путешествием, в храме на службе или тайно, в уме, по дороге на работу. Это неистощимая богословская пища для ума и сердца человеческого. Пища простая, словно хлеб, но столь же необходимая.
Это неистощимая богословская пища для ума и сердца человеческого. Пища простая, словно хлеб, но столь же необходимая
Возможно, эту молитву читала Богоматерь. Ее, несомненно, произносили в евхаристических собраниях Петр, Андрей, Иоанн, Иаков. Ее, как непременную и необходимейшую часть Предания, передавали ученикам и слушателям все, кто разносил по миру Благую весть о всеобщем человеческом искуплении. С этой молитвы удобно начинать и новый день, и обучение тайнам и премудростям Церковного богословия. При всей своей очевидной краткости, плотность смыслов в этой молитве такова, что каждый, без исключения, священник или епископ при желании сможет сказать об этой молитве нечто свое, лично прочувствованное, лично понятое сердцем на путях общения с Богом Отцом и Сыном Его Иисусом Христом во Святом Духе.
Купить книгу протоиерея Андрея Ткачева «Каюсь, что я не ангел» можно здесь: