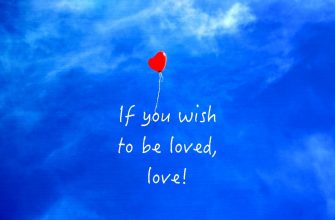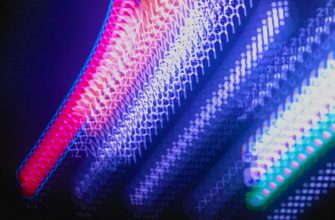Три важных книги о блокаде для детей
22 июня в России – день памяти и скорби. Мы вспоминаем о том, как началась самая страшная война в истории – и нашей страны, и всего человечества. Великая Отечественная война затронула каждую семью, и наш долг – помнить не только о Великой Победе, но и о том, какой ценой она далась нашим предкам.
Великой Отечественной войне посвящено немало хороших книг, в том числе написанных для детей. В основном это талантливые и честные произведения, ведь созданы они ветеранами, свидетелями той поры. Особенной болью среди них отзываются те, герой которых – ребёнок, попавший в жернова этой беды.
Но в каждой из этих книг есть другое: преодоление, особый внутренний стержень, благодаря которому человек оставался собой в нечеловеческих условиях. Помогал другим, отрывая от себя последнее. И что это, если не Божественный свет души-христианки – даже если об этом нет ни слова в книге?
Юрий Герман. «Вот как это было»

Книга эта, на первый взгляд, – безыскусный рассказ семилетнего мальчика о своей жизни. Однако это обманчивая простота: за ней стоит и большая литературная работа, и глубокое знание детской психологии, внимательные наблюдения. Для нас она ценна ещё и тем, что может помочь современному родителю рассказать чаду о Великой Отечественной войне. А это становится непростым делом: нынешние дети практически не застали ветеранов, живых свидетелей тех событий. В их сознании военные годы становятся «преданьями старины глубокой». И поэтому нужна не просто правда – нужны свидетельства, понятные и близкие. В первую очередь впечатления сверстника.
Маленький Мишка живёт в Ленинграде. Предельно просто, по-детски непосредственно он описывает свою жизнь. Вот папа, он пожарный. Почему-то он не носит форму дома, и друзья во дворе не верят мальчику, когда тот рассказывает об отце. Вот мама, она учится на курсах противовоздушной обороны, и в тетрадке у неё нарисованы бомбы, и Мишка однажды пририсовал к ним огонь. Вот перекрёсток, где стоит Мишкин дом, через дорогу – школа, а на перекрёстке – милиционер, Иван Фёдорович, который козыряет мальчику каждый раз, когда тот отправляется учиться.
Всё привычно, всё просто, незыблемо и хорошо, как и должно быть в мире ребёнка. Есть те, кто его любит, есть привычные вещи, есть порядок, который нужно соблюдать. И в этот тёплый и спокойный мир врывается война.
А Мишка лежит в больнице, лечится от скарлатины. А потом его ранит осколком, и, очнувшись, он обнаруживает себя в другой палате, а рядом – военного лётчика, который, по иронии судьбы, тоже лечился от этой детской болезни.
Поранило, говорит, кое-кого.
Рассказал и отвернулся.
Я стал спрашивать, кого поранило; он молчал, молчал, потом ответил:
– Где же все остальные? – спрашиваю.
Потом поднялся и стал ходить. Никогда я не думал, что может человек столько по комнате ходить из угла в угол…»
«Вот и кончилось твоё детство, Мишка», – грустно резюмирует мама, когда он выходит с костылём из госпиталя. Но Мишка – ребёнок, мыслит и чувствует он как ребёнок. Смотрит из окна на знакомый перекрёсток – и думает о том, как он изменился. В школе теперь госпиталь, на крыше дома стоят зенитки, не ходят троллейбусы. А мама и папа становятся такими повседневными героями.
Мама обезвреживает бомбы, ежедневно рискуя собой, обессилевший от голода папа тушит пожары. А исхудавшие и ослабевшие ребята – Мишка, его друг Геня с сестрой Леночкой – отправляются в госпиталь, чтобы устроить концерт раненым бойцам.
Голодные дети думают не о себе, осознают, что кому-то ещё хуже, и помогают, и преодолевают себя
Это кажется удивительным сегодня: голодные дети, которые думают не о себе, которые осознают, что кому-то ещё хуже, и помогают, и преодолевают себя. Но это так – через все книги, посвящённые Ленинградской блокаде, переходит эта мысль: я должен терпеть ради общего дела, я должен помочь, потому что тому, кто рядом, хуже. Мишка рассказывает о школе, о том, как трудно было учиться, как постоянно хотелось есть, какое стихотворение написал один из учеников:
Над Ленинградом нависла блокада.
Мороз крепчает. На улице ни души.
В это время в школах Ленинграда
Сидят ученики, стиснув карандаши.
Лица опухшие, руки иззябшие –
Плохо слушать урок.
Уши отмёрзли. Но не сдаются ребята,
А с ними и их педагог.
А финал у книги самый что ни на есть счастливый. Освобождённый Ленинград, марширующие по проспектам полки, ликующие горожане. Только вот пережитое никуда не делось – затаилось навсегда в этом рано повзрослевшем мальчишке.
«Вот как это было» – тот редкий случай, когда произведение о войне вполне понятно и не страшно читать даже шестилетке.
Ребёнок и блокада в повести Виктора Дубровина «Мальчишки в сорок первом»

А есть книги безыскусные, написанные просто. Но за этой простотой – глубина. Поэтому такие книги – ничуть не меньшие литературные шедевры. Сама история в них бесценна. Особенно если она не выдумана, правдива.
«Мальчишки в сорок первом» – повесть журналиста Виктора Дубровина. В тринадцатилетнем возрасте он пережил блокаду, заработав болезнь сердца, которая и свела его в могилу в расцвете лет.
Первый раз книга была издана в 1968-м году. Ценна она особенно тем, что написана от лица ребёнка. И это не педагогические измышления, а чистая правда.
Война застаёт героя повести Вовку и его семью на даче. Он возвращается в Ленинград в приподнятом настроении: вокруг столько интересного! Солдаты маршируют, техника едет на фронт, а друг Женька, сын лётчика, собирается ловить шпионов. И Вовка с досадой думает о том, почему взрослых так волнует введение продовольственных карточек: до еды ли в такую пору!
А потом мальчик видит зарево над Бадаевскими складами, которые разбомбили фашисты. Это – первая точка отсчёта в череде страшных голодных месяцев.
Знаете, сейчас много говорят о том, что современная молодёжь не знает, что такое голод. Это правда. Но, мне кажется, великое счастье – не испытать этого по-настоящему. А вот знать действительно надо. И эта книга – «Мальчишки в сорок первом» доходчиво и последовательно описывает погружение человека в это состояние. Совсем ещё не взрослого человека, мальчишки.
Сначала они с другом собирают на поле кочерыжки и капустные листья. Потом мальчик обстоятельно рассказывает об очередях в булочных, об уменьшении хлебной нормы.
«Стеклянные витрины наполовину разбиты и пусты. Окна забиты досками. Полки, на которых лежит хлеб, завешены простынями. Хоть бы их открыли! Хоть бы посмотреть на целые хлебные буханки! Тогда бы, наверное, стало легче. До войны в этой булочной чего только не было. А покупатели – чудаки – да и я, когда мамка за хлебом посылала, спрашивали: ‟А товар у вас свежий?”… Теперь всё иначе. Чем черствее, тем лучше. Потому что чёрствый хлеб легче – из него пар вышел.
Правда, теперешний хлеб всегда очень тяжёлый. Он, как тесто, плотный и вязкий. Пятьдесят граммов хлеба – меньше спичечного коробка…»
Здесь все просто, выпукло, наглядно. Здесь нет метафор, литературной игры. Хлеб – это хлеб, голод – это голод. И ещё страшнее становится от этой простоты.
Вовка худеет и слабеет. Они с мамой в основном лежат под одеялами – нет сил ходить, да и калории зря тратить нельзя. Только иногда, когда особенно донимает голод, они пьют экстракт – воду, настоянную на хвое. Впрочем, зубы всё равно шатаются.
В повести подробно описана и Ёлка – знаменитая блокадная Ёлка, где едва живым от голода ребятам давали по паре мандаринов и конфет, а самое главное – горячий суп и кашу. И здесь особенно ясно видно, как озорной и легкомысленный, как любой ребёнок, мальчишка превращается в рассудительного не по годам взрослого. Как было бы здорово, если бы он чувствовал себя по-прежнему пацаном, мечтал, бегал, играл. А он рассуждает о том, какой питательный пар идёт от супа и как можно растянуть хлебную норму на сутки, чтобы не умереть…
Вовка не съел мандарины. Он принёс их, а ещё конфеты и бережно завёрнутую котлету, домой, матери и отцу. Самый трогательный, самый сильный момент книги – как отец долго смотрит в глаза сыну, а потом отламывает маленький кусочек мандариновой корки, нюхает её, кладёт в карман и уходит. Когда он умер на оборонном заводе, где работал, в его кармане нашли эту самую маленькую засохшую корочку.
Удивительно, но голод – не главное в книге. Главное – это то, как люди остаются людьми в цепких лапах голода. Вовка с другом спасают женщину, замерзающую на льду Невы. Они несут последнее родным, еле живые от голода. Они, совсем ещё не взрослые, никогда не крадут и не отнимают еду. Едва оправившись и отставив в сторону тросточки, с которыми ходили, они начинают помогать тем, кому тяжелее.
Голод – не главное в книге. Главное – это то, как люди остаются людьми в цепких лапах голода
Всё это описано просто, без пафоса. Это такая жизнь – повседневная, трудная, военная, блокадная. И, читая, понимаешь: вот она – причина Победы. Подвиг духа человеческого.
Читать будет интересно и здорово вместе с детьми. Думаю, с 11-12 лет она будет вполне понятна.
Элла Фонякова. «Хлеб той зимы»: блокада глазами семилетней девочки

Постепенно из капризной «малоежки» Лена превращается в человека, который радуется любой еде – даже студню из столярного клея. Она приобретает блокадный опыт – как сберечь силы, как собрать волю в кулак и не съесть свой кусочек хлеба уже утром, как научиться терпеть постоянное чувство голода.
Но это трудно, очень трудно, и не всегда это получается. И Лена вспоминает самый горький свой хлеб – съеденную тайком родительскую пайку. Нет, её никто не ругал, мама даже сунула в руку девочке оставшийся кусок. Но этот стыд, эта боль запомнились навсегда. И читать об этом больно, потому что написано просто и честно. И возникает в голове зудящая такая мысль: «А ты как? Ты бы сдержалась?» И мысль эта – неприятная, страшная, скорбная – она правильная, мне кажется. Иногда нужно задавать себе такие сложные вопросы. Даже если ты ещё не взрослый.
А потом – картинки блокадной жизни. Новый год – тесным и дружным кругом, ради которого все откладывали по крошечке, отрывали от своей скудной дневной нормы. Или глава «Казнь для Гитлера» – тоже страшная и честная – о том, какую ненависть испытывали к врагам голодные ленинградские дети. Или удивительный рассказ о картошине, которую по счастливой случайности нашла мама Лены и принесла дочке, и как все отщипывали себе по микроскопическому кусочку – для вида, оставляя драгоценное лакомство истощённой девочке.
А есть в книге и вовсе удивительное. То, что не нуждается в комментариях. Речь хмурого управдома, который руководит своими обессиленными голодом жильцами, вышедшими на субботник весной 1942 года.
«Он проводит рукой по лбу, по глазам – и словно снимает с лица своё хмурое, ‟руководящее” выражение. Теперь он смотрит на нас устало и доверчиво:
– Ленинградцы, милые жильцы мои, – тихо говорит он. – Мы с вами такую зиму пережили, расскажем детям потом – не поверят… Сами страшно выглядим, а город наш – ещё страшнее. Он вместе с нами страдал, все выстрадал, все видел, все перенёс. Нужно помочь ему сейчас – подлечить, чтобы весну он по-человечески встретил… Я знаю, слабые вы все, недоедаете, тяжела для вас эта работа – вон, какие завалы во дворах, – но что же делать, что же делать, дорогие мои? Кроме нас, жильцов, никто этого не сделает. Уж соберитесь с духом, держитесь как-нибудь, все нам потом воздастся…
В строю всхлипывают. Управдом – снова хмур и строг.
– Мою команду слу-шай! Па-а рабочим местам шагом арш!»
Я бы рекомендовала читать «Хлеб той зимы» детям от 9 лет, хотя героине семь: некоторые особенно тяжёлые моменты и глубокие эмоциональные нюансы для ровесников героини «слишком». Однако, при всей тяжести темы и честности автора, книга эта – светлая. В ней нет беспросветности. Есть щемящая жалость, есть то, что вызывает слёзы. Ну, а как без них?
Я думаю, призвание этих произведений – не запугать. Наоборот. Показать, какими удивительными, стойкими, великодушными и милосердными могут быть люди, что они могут преодолеть, вытерпеть. И всё это – самый верный ориентир на пути к пониманию Великой Отечественной войны и Победы.
Ирина Рогалева. Рассказы о блокаде для детей.
| — Кнопочка, иди быстрее! Кнопочка, опоздаем! – подгонял, идущую с недовольным видом по улице младшую сестру Николай. Прохожие, услышав его, с улыбкой смотрели на девочку с необычным именем. На самом деле Кнопочку звали Маруся, было ей семь лет. Курносый носик, зажатый пухлыми щечками и, вправду, был похож на кнопочку, поэтому Марусю домашние так и звали. Николай, высокий худощавый паренек с добрым открытым лицом, был старше сестры почти на десять лет. Маруся Смирнова. Обидно, что родители афишу не увидят, они бы порадовались за нашу фамилию. Проводив сестру до сцены, он вошел в зал. В партере свободных мест почти не было. Пришлось устроиться на откидном стуле. Помощник сцены вынес аккордеон и поставил девочке на колени. Над массивным инструментом осталось видно лишь круглое Кнопочкино лицо с серыми глазами. Он все-таки успел купить букет гвоздик и вручил их учительнице в конце концерта, когда она вместе, с победившей в своей возрастной группе, Кнопочкой вышла на сцену. — Молодчина! – похвалил Николай сестру после концерта. — Петь я все равно больше люблю! – заявила та. – Проси, что хочешь! Все исполню, как старик Хоттабыч! – брат потрепал ее по макушке. — Готово! – он протянул Кнопочке пломбир на палочке. — С инструментом на карусели? – растерялся Николай. – Пока его домой отвезем пол дня пройдет, а с такой бандурой гулять не хочется. Кнопочка посмотрела на брата такими умоляющими глазами, что отказать ей Николай не смог. На Елагин остров ехали на рогатом троллейбусе. Счастливая девочка здоровалась со всеми входящими пассажирами. Они, с улыбкой, ей отвечали. Немного прогулявшись по парковым аллеям, они встали в очередь за билетами на аттракционы и прямо там познакомились с Вадиком, невысоким крепким пареньком в клетчатой рубашке, на вид ровесником Николая. К огромной радости ребят, Вадик сам предложил посторожить инструмент, пока те катаются. — Не бойтесь, сохраню в лучшем виде! Глаз с него не спущу. Катайтесь, сколько хотите. Я никуда не спешу, – Вадик крепко пожал Николаю руку и уселся на скамейку рядом с футляром. Кнопочка одарила его лучистой улыбкой и помчалась на карусели. Катались брат с сестрой не больше десяти минут, но когда вернулись, Вадика не было. Исчез и аккордеон. — Наверное, он за водой отошел, или в туалет? – предположила Кнопочка. – Сейчас вернется. Ребята сели на скамейку. Через час стало понятно, что новый знакомый не вернется. Николай обежал весь парк, опросил множество людей, но паренька в клетчатой рубашке с футляром аккордеона в руке никто не запомнил. — Этого Вадика обязательно поймают! – девочка вскочила. – Мама на инструмент два года деньги откладывала! Как мы ей скажем о пропаже? Она так много работает. Так устает! – Кнопочка разрыдалась. Дежурный сержант в милицейском участке принял заявление, посочувствовал ребятам и пообещал зареванной Кнопочке вора обязательно поймать. Николай, нарисовал карандашом портрет Вадика: короткие брови над глазами-угольками, искривленный нос, плотно сжатые губы, левое ухо немного оттопырено. Уставшие, они вернулись домой вечером. Накормив сестру Николай ушел к другу готовиться к экзаменам, а Кнопочка решила прибрать в комнате. Мама пришла с работы с коробкой конфет. Медсестрам выздоравливающие больные иногда дарили конфеты. Кнопочка обхватила маму руками, уткнулась в пропахшее лекарствами платье и, не поднимая глаз, рассказала о пропаже аккордеона. — Хоть в чем-то мне повезло больше, чем Кольке! – воскликнула Кнопочка. – У него экзамены, а у меня – каникулы! Она расцеловала маму, подбоченилась и громко распевая калинку-малинку пустилась в пляс. Через год эти же слова Кнопочке в госпитале сказал раненный подполковник. Проклятая война, начавшаяся спустя месяц после конкурса, длилась уже целый год. Николай успешно сдал экзамены, прибавил себе год и ушел добровольцем на фронт. От него пришло несколько писем, которые мама перечитывала каждый день. Отец, моряк, ходивший в Балтийском море, был призван в ряды военных моряков. Он приехал в Ленинград на один день, чтобы попрощаться с семьей. Кнопочка на всю жизнь запомнила его загорелое обветренное лицо, сильные руки, подхватившие ее у входной двери, жесткий бушлат, пахнувший морем. Отец привез несколько морских звезд и множество мелких ракушек. Эти звезды, в самые голодные блокадные дни, они с мамой варили и ели. Варили долго, ели быстро. Маруся вместе с другими детьми из своей музыкальной школы, навещала раненных солдат в госпитале, где работала мама. Ребята разного возраста выступали каждый со своей программой. Десятилетний Валерка играл на баяне. Носить баян, ослабевшему от голода, Валерке было трудно, поэтому ему разрешили держать инструмент в шкафу, в кабинете главврача. Валерка играл, а Кнопочка пела. Голос у нее был сильный, звонкий, раненные любили ее слушать, и иногда подпевали симпатичной девчушке. Аккордеон так и не нашли. С приходом войны милиции стало не до поисков. В городе появилось множество воров, грабивших пустые квартиры людей, уехавших в эвакуацию, и шпионов. По ночам они пускали в небо ракеты: подавали сигналы немецким бомбардировщикам, указывая, куда бросать бомбы. Вместе с Кнопочкой в госпиталь ходили два скрипача из старших классов: Боря и Миша, которому педагоги пророчили большое будущее, он был настоящим виртуозом. Раненные с нетерпением ждали прихода детей, и как могли их подкармливали. Кнопочке часто перепадали то кусочек шоколадки, то печенье, то ломоть хлеба, хотя брать еду у раненых строго запрещалось. Однажды главврач заметил, как Кнопочка после выступления убрала в карман кофты хлеб. Он так рассердился, что на целый месяц запретил девочке петь. Хорошо, что один полковник уговорил врача простить Кнопочку. Ее звонкий голосок снова зазвучал под звуки баяна, поднимая настроение раненым бойцам. Летом время бежало быстрее, голод был не таким сильным, блокадников спасала зелень. Оказалось, что из мокрицы, крапивы и сныти можно готовить вкусные блюда. Клумбы и палисадники Ленинграда превратили в грядки. В меню госпиталя появились: суп из крапивы, салат из мокрицы, блинчики из сныти. Подросшая Кнопочка не только пела перед солдатами, но и помогала на госпитальной кухне: мыла посуду, чистила и резала овощи. Глав врач разрешил детям вычищать гигантские кастрюли и, конечно, съедать все, что оставалось на стенках. Миша делал это не менее виртуозно, чем играл на скрипке. После его работы, кастрюли блестели, как новые, а перед друзьями были приличные горки еды. Кнопочка совсем забыла о пропавшем аккордеоне, но однажды, в начале осени, распевая «Катюшу» в фойе госпиталя, она заметила знакомое лицо: короткие брови над глазами-угольками, немного искривленный нос, плотно сжатые губы. «Это же вор, тот самый Вадик, укравший аккордеон! Точно он! Только осунулся сильно.» Кнопочка пела, гневно смотря вору в глаза, но тот ничего не замечал. Концерт закончился. Раненные начали расходиться, более здоровые уносили стулья, провожали в палаты слабых товарищей. Заготовив гневную речь, девочка направилась к Вадику. Он поднялся с места, тяжело опираясь на костыли. Пустая пижамная штанина была свободна от самого бедра. — Конечно, нет! Выздоравливайте! Кнопочка развернулась и уже собралась уходить, как Вадик ее остановил: Спустя три года после войны Маруся встретила Вадика на Московском вокзале. В солдатской застиранной форме, он сидел на ступеньках у перрона и растягивая меха аккордеона играл «Катюшу». У пустой штанины лежала шапка. Маруся подошла ближе. Девочка покачала головой. Ирина Николаевна Муллер |