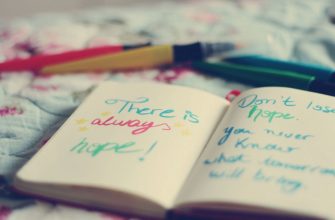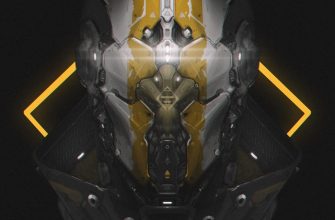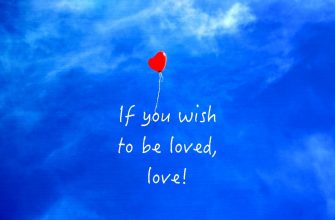Гаспаров М. Л.: О поэтах.
Федр и Бабрий
ФЕДР И БАБРИЙ
Чтобы это объяснить, нужно начать издалека.
Эти «Эзоповы басни» были еще всецело устным жанром. Твердо установившейся формы они не имели: каждый рассказывал их своими словами и на свой лад. Рассказывались они непременно по какому-нибудь конкретному поводу: только так они могли служить орудием общественной борьбы. Басня вплеталась в связную речь, служа доводом или пояснением, и форма изложения басни полностью определялась требованиями контекста. В таком виде басня переходит из устной речи и в первые произведения письменной литературы. Мы находим кстати рассказанные басни и в поэме Гесиода (VIII в.), и в ямбах Архилоха (VII в.), и в комедиях Аристофана, и в истории Геродота, и в философских выступлениях софистов и сократиков.
Такими писателями оказались Федр и Бабрий.
Федр говорит о себе охотно, особенно в прологах и эпилогах своих книг; благодаря этому его биография известна нам хотя бы в общих чертах.
Вот все, что мы знаем о Федре; это совсем немало, особенно по сравнению с той неизвестностью, которая окружает имя Бабрия. В противоположность Федру Бабрий нигде, за единственным исключением (в басне 57), не говорит о себе. Поэтому его биографии мы не знаем, и лишь по косвенным признакам можем предположительно определить его происхождение, время и обстоятельства его жизни.
Сравним две басни, написанные Федром и Бабрием на один и тот же хорошо известный сюжет: «Лягушка и бык».
Однажды бык, придя на водопой к пруду,
Своим копытом раздавил сынка жабы.
Вернувшись из отлучки, жаба-мать деток
Спросила, где их брат. «Ах, он лежит мертвый:
Огромный толстый зверь на четырех лапах
Ступил и раздавил его». Раздув брюхо,
Спросила мать, такого ли был зверь роста?
Но те в ответ: «Не надо, не трудись лучше:
Поверь, что ты скорее пополам лопнешь,
Чем сможешь уподобиться тому зверю».
Пастух, козе дубинкой обломавши рог,
Просил не выдавать его хозяину.
«Смолчу, хотя поступок твой и мерзостен;
Но сами вопиют его последствия».
Пастух в загон однажды козье вел стадо (
Одни охотно шли, других он гнал силой).
И вот одной козе, что забрела в яму
И там щипала клевер и траву козью,
Сломал он рог, швырнув издалека камнем,
И просит: «Козочка, ведь мы в одном рабстве
Так ты уж хоть во имя бога рощ, Пана,
Хозяину меня не выдавай: право,
Я вовсе не хотел в тебя попасть камнем».
Коза в ответ: «Но как такое скрыть дело»
Пусть я смолчу, но сам красноречив рог мой».
Соседа-вора видя свадьбу пышную,
Эзоп немедля принялся рассказывать:
Однажды Солнце взять жену задумало,
На что лягушки крик до неба подняли.
Спросил Юпитер, гамом потревоженный,
В чем дело? Молвят жители болотные:
«Оно и в одиночку сушит заводи,
Нас заставляя гибнуть на сухих местах;
Что ж будет, если оно еще детей родит?»
Справляло Солнце в жаркий летний день свадьбу,
Веселый это был для всей земли праздник.
В пруду лягушки тоже завели пляску,
Но их такою речью уняла жаба:
«Не песни бы нам петь, а проливать слезы:
И в одиночку Солнце нам пруды сушит,
Так что же с нами станется, когда в браке
Оно родит подобного себе сына»
Стремясь к живости и естественности изображаемых картин, Бабрий заботится о мотивировке даже таких подробностей, которые Федром оставляются без внимания в ряду прочих басенных условностей. Так, Федр в басне о мышах и ласках (IV, 6) сообщает, что мышиные вожди привязали себе рога к головам, но не задумывается, что это были за рога и откуда они взялись; а Бабрий, обрабатывая тот же сюжет (басня 31), не забывает сказать, что это были прутья, вырванные из плетня. Так, ни в одном из вариантов эзоповой басни о споре дуба с тростником не возникает вопрос, почему, собственно, дубу пришла странная мысль тягаться с тростником силою; а Бабрий (басня 36), изображая вырванный бурею дуб плывущим по пенной реке, отлично подготавливает встречу этих несхожих растений. Так, Федр (I, 3), рассказывая о галке в чужих перьях, не объясняет, откуда галка набрала эти перья; а Бабрий (басня 72) пользуется этим, чтобы дать красивое описание ручейка, возле которого птицы прихорашивались перед состязанием в красоте: тут-то и подбирала галка чужие перья.
Заботясь о связности мотивов, Бабрий заботится и об их правдоподобии; Федр к этому вовсе равнодушен. У Эзопа и Федра (I, 4) собака видит свое отражение в воде, по которой она плывет, хотя это физически невозможно; Бабрий обращает на это внимание (басня 79), и у него собака не переплывает реку, а бежит по ее берегу. Федр (I, 5) заставляет травоядных корову, овцу и козу вместе со львом охотиться на оленя; а Бабрий старательно заменяет в басне 97 эзоповский мотив угощения мотивом жертвоприношения, чтобы не заставлять льва предлагать быку на обед мясо. В другом месте Федр без колебаний дает льву в товарищи по охоте осла (I, 11); Бабрий же для такого сообщества приискивает особую мотивировку (басня 67): «лев был сильнее, а осел быстрей бегал».
Эпитетами, метафорами и прочими украшениями слога оба баснописца пользуются в одинаковой мере, но по-разному: Федр рассыпает их лишь для того, чтобы придать общий поэтический оттенок своей речи, Бабрий же умело распределяет их, отмечая важнейшие места рассказа, чтобы придать ему яркость и выразительность.
Все, что было сказано, относится к различиям в трактовке стиля. Но не менее, если не более, значительна разница между Федром и Бабрием и в трактовке самого жанра басни.
Внимайте, люди, Фебовым вещаниям!
Блюдите благочестье; жгите тук богам;
Отечество, родителей, детей и жен
Мечом защищайте; отражайте недруга,
Помогайте другу, милуйте несчастного;
Дружите с добрым, хитрому препятствуйте;
За обиду мстите, нечестивцев сдерживайте.
У Бабрия такого разрыва между баснями поучительными и баснями развлекательными нет. Мы можем найти у него и сказку (95 «Больной лев, лиса и олень»), и миф (58 «Бочка Зевса»), и аллегорию (70 «Браки богов»), и хрию (40 «Верблюд»), и эротический анекдот (116 «Муж и любовник»). Но все они теряются в массе традиционных эзоповских басен и сами приобретают черты этих басен. Федр подчеркивает жанровую новизну своих басен, Бабрий ее затушевывает: чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить басни Федра А, 5 «Загробные кары» и Бабрия 70 «Свадьбы богов» (аллегории) или Федра А, 20 «Голодный медведь» и Бабрия 14 «Медведь и лиса» (зоологические курьезы).
Когда медведю есть бывает нечего,
Он из лесу бежит к морскому берегу
И, держась за камни, в воду погружается.
Когда в мохнатые ляжки раки вцепятся,
Морскую он добычу тащит на берег
И, отряхнувшись, ею насыщается.
Так даже и глупцы умнеют с голоду.
Медведь хвалился тем, что он людей любит
И никогда не трогает людских трупов.
Лиса ему ответила: «Уж ты лучше
Жалел бы их живыми и терзал мертвых».
Эзоп к себе в рассказ самих богов вставил, Желая этим вот что показать людям:
Социальная тема, напротив, едва затронута Бабрием, а у Федра занимает очень много места. Даже когда оба баснописца берутся за один и тот же сюжет о сладости свободы и горести рабства («Волк и собака»), то, против обыкновения, басня Федра оказывается и пространнее, и живее, и красочнее басни Бабрия:
На диво толстый повстречался пес волку,
И волк его спросил: с каких кормов мог он
Отъесться так, что этаким заплыл жиром?
Пес отвечал: «Меня один богач кормит».
— «А отчего, скажи, блестит твоя холка»
— «Всю шерсть на ней железное кольцо стерло»,
В которое хозяин мне замкнул шею».
Со смехом волк собаке отвечал: «Ладно,
Тогда прощай, богатая еда, если
Из-за нее железо мне сожмет горло».
Верблюд горбатый, вброд переходя реку,
Стал испражняться в воду, и поток вынес
Его навоз к его ноздрям.
Верблюд молвил: «Беда пришла, коль заднее вперед лезет!»
Об этой басне не мешает там вспомнить,
Где худшие над лучшими вольны править.
Чем объяснить, что два античных поэта, два создателя литературной басни пошли по двум столь противоположным направлениям? Причин этому по крайней мере две: разница во времени и разница в социальном положении.
Так наметились в литературе Римской империи два противоположных направления в развитии басенного жанра: моралистическое, плебейское направление Федра и эстетизирующее, аристократическое направление Бабрия. Однако дальнейшего углубления эта противоположность не получила. Общий упадок античной культуры остановил развитие обоих направлений: ни у Федра, ни у Бабрия не было продолжателей, были только подражатели. В их творчестве разница между двумя тенденциями начинает стираться: подражатели Федра отказываются от злободневной резкости, их мысли становятся отвлеченнее, тон спокойнее; а подражатели Бабрия уступают все шире распространяющейся моде на дидактическую поэзию и снова усиливают в басне моралистический элемент, жертвуя простотой и непринужденностью рассказа. Но разница между демократической традицией Федра и аристократической традицией Бабрия сохранилась и, может быть, даже стала еще резче.
При столь основательной переработке своего источника составитель «Ромула», бесспорно, уже имел за собою какую-то традицию народной басни; предполагают, что он пользовался не дошедшим до нас народным сборником латинских прозаических басен (так называемый «Латинский Эзоп»). Любопытно, что имя Федра в сборнике даже не упоминается: книга выдается за перевод непосредственно с греческого текста Эзопа, выполненный неким Ромулом и посвященный им своему сыну Тиберину.
Чтоб хитрый пес прохожим не кусал ноги,
Хозяин привязал ему звонок к шее,
Который было всем издалека слышно.
Спесивый пес на площадь с бубенцом вышел,
Но тут седая молвила ему сука:
«Подумай, чем кичишься ты, глупец бедный:
Ведь это не награда за твою доблесть,
А обличенье злого твоего нрава».
P. S. Статья была написана как послесловие к переводу басен Федра и Бабрия (М. 1962). До некоторой степени она была реакцией на попытку тогдашней советской филологии изобразить Федра представителем подлинно демократической античной литературы, голосом рабов и вольноотпущенников («История античной литературы» под ред. Н. Ф. Дератани, М. 1954). Потом статья была расширена до монографии «Античная литературная басня» (М. 1971); там же и литература вопроса. Структурному анализу басен Федра и Бабрия посвящен II том монографии: М. Nøjgaard. La fable antique. Cobenhagen,1967, но при работе над статьей и книгой он еще не был нам доступен.