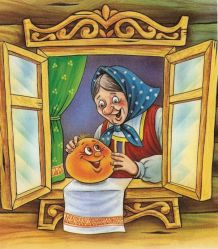НАРОДНЫЕ СКАЗКИ КАК ФЕНОМЕН РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Слово «сказка» впервые встречается в семнадцатом веке в качестве термина, обозначающего те виды устной прозы, для которых в первую очередь характерен поэтический вымысел.
А природа этих древних ритуалов связана с глубинными механизмами формирования символического поведения и образного мышления. Сказки, как и сновидения, в некотором смысле обращаются непосредственно к механизмам бессознательного. В этом их большая сила. И в то же время это выразительные, художественные тексты, которые доставляют при чтении эстетическое удовольствие. Сюжеты русских народных сказок странны с точки зрения рационального сознания.
Анализируя русскую народную сказку в указанных планах и смежных с ними аспектах, современный человек может не только реконструировать мир своих предков, их бытие, жилище, занятия, обычаи и др., но и, главное, уяснить себе особенности национального этнического типа.
Сказка содержит фантастические элементы, которые добавляются к приблизительно правдоподобным и продвигают сюжет. Классическая сказка всегда позитивно заканчивается для главного персонажа. Сказка всегда происходит «не здесь и не сейчас», то есть сюжет размещен «в некотором царстве, в некотором государстве». События всегда происходят в условном времени, помещенном в прошлом. Сказка принципиально циклична и воспроизводима. То есть читатель или слушатель точно знает, что услышит тот же самый сюжет, который ему знаком.
Роли и сценарии событий сказки принципиально не сводимы к отношениям в обыденной логике, к ней неприменима этика обыденной жизни. В сказке герои, как правило не имеют серьезных личных мотивов для совершения поступков, их «влечет композиция сказки». В сюжете сказки мы заметим отсутствие эпизодов с сильным выражением чувств, хотя героям приходится встречаться с достаточно сильными испытаниями. Они не переживают, они действуют. Известно, что композиция сказки всегда начинается с того, что кем-то было нарушено правило или нарушен запрет. Действия героя сказки направлены по композиции на то, чтобы восстановить порядок и целостность мира. Именно поэтому благодаря сказке мы видим, каким именно образом обустроена эта структура. Расширительно можно сказать, что композиция народной волшебной сказки сама по себе есть завершенный динамический образ, имеющий структуру.
Своеобразны отношения героев с временем. Герои сказки имеет весьма приблизительную историю жизни, они не имеют обязательных родителей ( в отличие от героев мифа). Герои не могут заболеть (например, у них нет простуды, правда, враг может разрубить их на части ), у них нет развернутой биографии, в общем, в отличие от героев мифа, они бессмертны ( если злодей убивает героя, то обязательно найдется способ его восстановить, например, с помощью живой и мертвой воды
Герои сказок, как правило, прекрасны наружностью, высоки, стройны и румяны, но прежде всего они являются носителями этических идеалов русского народа, их достоинства заключены не во внешних, а во внутренних, душевных их качествах, проявляются в поступках, взаимоотношениях с людьми и миром в целом.
Сказки, как правило, отражают не индивидуальные черты того или иного героя, но типичные черты народа в целом. Сказочный герой никогда не ощущает себя оторванным от народа. Это ощущение связано с присущими ему понятиями «родины», «рода», «народа», неразрывно взаимосвязанными. Герой русской сказки ощущает себя членом одной большой семьи, что отражается в обычае гостеприимства, сценах совместного мирного труда или борьбы за счастье и свободу народа.
История и значение русских сказок в культуре России
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»
Устное народное поэтическое творчество возникло в глубокой древности, явилось естественным преддверием, художественной основой, и достигло своего совершенства ко времени введения на Руси письменности. Народная сказка широко использовалась в древнерусской литературе. Благодаря этому в литературу проникло подлинно идейное народное начало.
Идейно-воспитательное значение сказки в том, что она вдохновлена стремлением к добру, защитой слабых, победой над злом. Кроме того, сказка развивает эстетическое чувство, т.е. чувство прекрасного, для нее характерно раскрытие прекрасного в природе и человеке, единство эстетического и морального начал, соединение реального и вымысла, яркая изобразительность и выразительность. По всей России распространены одни и те же сказки. В русских сказках присутствует образ родной земли. Поэтически дана характеристика русской природы, которая изображается именно русская; чистое поле, береза, калина. Кроме того, во многих сказках отразилось сознание народа об ее необъятных просторах, нарисованы картины русского народного быта и обрядов, жизненной обстановки.
Елена Прекрасная, Василиса Премудрая и другие образы – символы женского начала, это непременные символы мудрости, любви, Родины. Символами света и добра является соединение женского и мужского образа в сказке, то есть добро, свет – это гармония женского и мужского начала, основной закон природы. Сказка говорит о том, что только в единении мужского и женского, двух половин одного целого, возможна природная гармония, победа над дисгармонией мира, над сказочным злом, нам темными силами. Интересен и образ Солнца, которое символизирует душу человека, душу всего живого, это выражение сильного мужского начала, мудрого и красивого; ещё это источник плодородия, как первооснова крестьянского быта, и величайшая духовная ценность.
Волшебные сказки были весьма популярны в народе. Вымысел в волшебных сказках носит характер фантастики. Начало волшебное заключает в себе религиозно-мифологическое воззрение первобытного человека, одухотворение им вещей и явлений природы, приписывание этим вещам и явлениям магических свойств, различные религиозные культы, обычаи, обряды и т.д. Сказки полны мотивов, содержащих в себе веру в существование потустороннего мира и возможность возвращения оттуда, представление о смерти заключенной в какой-либо материальный предмет (яйцо, цветок), о чудесном рождении (от выпитой воды), о превращении людей в животных, птиц и т.д. Все это лишь следы мифологических представлений.
Русскому народу свойственно сознание того, что человек всегда встречается на своем пути с жизненными трудностями, а своими добрыми поступками он их обязательно преодолеет. Герой, наделенный такими качествами как доброта, щедрость, честность глубоко симпатичен русскому народу.
Таким образом, можно подвести итог, что русская сказка представляет собой обобщенное, оценочное и целенаправленное отражение действительности, которое выражает сознание человека, и в частности сознание русского народа.
Русская народная сказка как проводник культуры в сердце ребёнка
Значение сказки для детей
Автор: Сычева Татьяна Николаевна, воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 153», г. Рязань
Описание материала: Данная статья может быть полезна для воспитателей разных возрастных групп, учителей начальных классов, родителей. Этот материал направлен на развитие интереса к истории русского народного фольклора и его роли в воспитании подрастающего поколения через сказку.
В жизненно важном для любой культуры
процессе особое значение имеет познание и
осмысление собственной старины, истоков
собственной национальной культуры.
В настоящее время большинство из нас мало знакомо с народной культурой. Как жили люди? Что их радовало, а что тревожило? Какие соблюдали традиции и обычаи? Чем украшали свой быт? Только на основе прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее.
В последние годы в российской системе образования произошли определенные позитивные перемены. Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя заново открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего народа.
Формирование представление о богатстве, разнообразии, нравственности, красоте культуры родного народа: приобщение к традициям нашего народа, воспитание лучших качеств его: трудолюбия, доброты, взаимовыручки, сочувствия – это и есть уважения к культуре и истории своей страны, чувства ответственности за её сохранение.
Ознакомление наших детей с русским народным фольклором очень важная и неотъемлемая часть воспитания.
Решая важнейшие задачи, при отборе фольклорных произведений, следует опираться на следующие принципы:
— познавательная и нравственная значимость;
Возможность формирования на их основе умения чувствовать окружающий мир. А так же учитывать следующие факторы:
— использование самых разнообразных видов фольклора, ибо в устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера;
— применение народных праздников и традиций;
— окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, должны быть национальными. Это поможет детям понять, что они – часть великого русского народа. Наиболее значимым проводником фольклора в жизнь является русская народная сказка. Не случайно А.С.Пушкин призывал: «Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть свойства русского языка».
Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, эгоизма, равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу могущественных сил зла с силами добра. Очень важны сказки, в которых осмеиваются такие человеческие пороки, как злобность, заносчивость, трусливость, глупость. Важно, чтобы ребёнок не просто слушал, сказку, а осознавал её идею, вдумывался в подробности происходящего.
Однако сказка – это не только занимательно, это ещё очень серьёзно. Сказка помогает лучше узнать, понять и полюбить свою страну, оценить её своеобразие и неповторимость.
Чтобы запомнить и пересказать сказку, народ веками вырабатывал приёмы:
— народный сказитель заранее знал, как начать сказку;
— добро всегда побеждает зло;
— сказки хранятся в памяти народа;
— сказка проходит через тысячи уст и имеет множество вариантов;
— в народной сказке много выдумки.
Для того чтобы поднять уровень восприятия детьми сказок, необходимо знакомить с вариантами сказок. Дети тонко подмечают оттенки в сюжетах, в характерах и поведении персонажей. Идёт переоценка услышанного ранее. Появляются и свои собственные, часто придуманные коллективно, варианты сказок. Очень важно всячески поддерживать эти проявления творчества.
Полнота восприятия сказки во многом зависит от того, как она прочитана, насколько глубоким окажется проникновение рассказчика в текст, насколько выразительно донесёт он образы персонажей, передаст и моральную направленность, и остроту ситуаций, и своё отношение к событиям. Дети чутко реагируют на интонацию, мимику, жесты.
Необходимо, однако, предостеречь рассказчика от попыток растолковать, объяснить своими словами содержание или мораль сказки. Это может разрушить обаяние художественного произведения, лишить детей возможности пережить, прочувствовать его. Рассказывать сказку надо неоднократно. Напряженно следя лишь за сюжетом, дети многое упускают.
Произведения народных сказок подбирают таким образом, чтобы они знакомили с разными сторонами действительности: явления живой и неживой природы, мир человеческих отношений, мир собственных переживаний.
Русская народная сказка служит не только средством умственного, нравственного и эстетического воспитания, но и оказывает огромное влияние на развитие речи. На основе анализа сказок и других фольклорных произведений в единстве его содержания и формы, а также в активном усвоении средств выразительности, дети овладевают способностью передавать в образном слове определённое содержание. Сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, как богата родная речь юмором, образными выражениями, сравнениями.
На протяжении всего дошкольного детства необходимо развивать в детях способность вслушиваться в речь и воспроизводить её. Для активизации высказываний интересны задания, требующие работы чувств и мыслей. Прочитав сказку, хорошо задавать, например, такие вопросы: «Подумайте, о ком вам хочется говорить, прежде всего, и почему?», «Какой отрывок хотелось послушать еще раз?», «Чем взволновала вас сказка?», «Какие слова, выражения запомнились, и их хочется повторить?».
Простые вопросы (что сделал, куда пошел и т.д.) не вызывают работу чувств и мыслей.
Во время рассказывания сказок обязательно нужно обращать внимание на жанр, образность языка (повторы, зачин, сравнения, эпитеты), учить понимать отличия сказки от других жанров.
Благодаря систематическим упражнениям, творческим заданиям, дети уместно, понимая значение, используют сказочные выражения в своей речи. Но, не смотря на то, что дети излагают готовое содержание и пользуются готовой речевой формой, это не механическое заучивание. Они осмысливают, сохраняют основную лексику, свободнее ориентируются в литературно-народном материале, появляется языковое чутьё, интерес к образному слову, а также представление себя на месте героев и проигрывание сказочных ситуаций.
Особую роль в ознакомлении с русскими сказками играет наглядность. Иллюстрации помогают лучше понять содержание, побуждают вспомнить текст, узнавать и характеризовать героев, рассказывать о событиях, что способствует развитию связного высказывания, восстановить в памяти и речи последовательность событий. Очень хорош и уместен здесь такой приём, как сериационный ряд из иллюстраций к данной сказке.
Опираясь на наглядный материал, дети направляют свои усилия на запоминание выражений, ярких образных слов и стараются их употреблять в речи. Как часто мы говорим ребёнку, запомни, и не учим, как это сделать; расскажи, а не уточняем о чём; придумай, а не говорим, как. А если немного помочь подтолкнуть к действию, обыграть ситуацию, то обучение станет понятным, доступным, интересным.
Напрасно думать, что сказка была и есть лишь плодом народного досуга. Она была и есть достоинством и умом народа, его исторической памятью, наполнявшей глубоким содержанием размерную жизнь, текущую по обычаям и обрядам.
Литература:
Князева О.П. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. С-П., 2006 г.
Сказка как важнейший источник понимания мировоззрения, религиозности и культуры русского народа
А. С. Муратова
Выступление для работников детских библиотек
Я хочу предложить вашему вниманию материал, тематика которого, как мне кажется, затрагивает наши профессиональные интересы.
Почему я заговорила о сказке?
Неужели сегодня для работы с читателями так уж важна эта проблематика? Неужели в сказке заключено что-то очень важное, причем не только для детей, но и для взрослых, и именно сегодня?
Я постараюсь показать, что это действительно так. Что забывая о сказке, даже игнорируя ее, как что-то несерьезное, как будто хорошо знакомое, вроде бы понятное, а в общем сугубо детское чтение, мы теряем нечто очень существенное в нашей культуре.
Имеется в виду не просто наше прошлое, старая народная культура, ее язык, обычаи, — культура, с которой мы, конечно, должны поддерживать какую-то связь, быть хоть в какой-то мере к ней приобщены, несмотря на огромные изменения, которые произошли и происходят сегодня. Дело не только в этом.
Дело в том, что и современную культуру и вообще всю нашу жизнь мы, оказывается, можем лучше понять, если мы обратимся к сказке.
Когда-то в прошлом, в 19 веке и раньше, ребенок рос и воспитывался под огромным влиянием сказки, язык и смысл которой был ему внятен, и не только ребенку, но и взрослому, ибо вся атмосфера тогдашней жизни была пропитана сказкой, причем везде, во всех сословиях — и в среде простого народа, и в дворянской среде (вспомним Пушкина и его няню). Более того, и литература была в значительной мере настоена на сказочном материале, фольклорных элементах, образах, представлениях, мифологемах сказки.
Взять, скажем, литературу 19 века, самый дух которой очень сильно связан со сказкой. Для кого писал Пушкин свои знаменитые сказки? Сейчас это почти исключительно детское чтение, но ведь написаны они были не только и не столько даже для детей, сколько для взрослых. Или Глинка, например, написал оперу «Руслан и Людмила» не для детского же оперного театра.
Так что сказка совсем не так раньше воспринималась, как какая-то детская забава.
Кстати говоря, она сейчас теряет даже характер забавы.
Вообще, современный человек склонен к забавам (всевозможные игры, конкурсы, теле- и радиовикторины и проч.). Но эти игры ему понятны, он знает, как надо действовать, каковы правила, какие знания ему потребуются.
А ведь сказку сегодня современный человек на самом деле почти не понимает (как это ни странно может показаться).
И подлинное понимание сказки человек начал терять уже давно. Знаменитая пушкинская фраза «сказка ложь, да в ней — намек» — дань времени, дань современности, когда в 19 веке началось переосмысление сказки, поскольку уже становилась отчасти непонятной глубокая древность. К сказке стали относиться несколько иронично (что видно и у Пушкина). Впрочем, намек-то люди того времени понимали и очень многое в сказке чувствовали, не надо было и объяснять.
Сейчас и намеков никто не понимает.
Недавно в одной статье детских психологов прочла о сказке: «. строго говоря, там все ложь».
Надо сказать, что наши педагоги (и в других странах тоже) попытались спасти сказку, сохранить ее для новых поколений, приспособить как-то к современному восприятию. А как это сделать? — Одев ее как бы в современные одежды. Что это за «одежды»? — мораль.
Ведь если все ложь и выдумка: сюжет, персонажи, — то что остается и зачем все это? — только для примитивного морализаторства, для нравоучительно-воспитательной цели («не надо быть жадным, злым», «добро побеждает зло» и т. д.).
Но и тут не все хорошо складывается: во-первых, это скучно и тоже далеко от жизни, во-вторых, не всякую сказку так удается трактовать.
Надо сказать, что раньше и сказки-то люди знали другие. Нам сегодня они больше известны в литературной обработке знаменитых писателей-сказочников. А если взять русские народные сказки, скажем, в записях А. Н. Афанасьева, то мы увидим особенности такого рода, что детям эти сказки читать не дадим, а читая сами, о морали забудем.
Таким образом, сейчас больше в ходу сказки, в которых основа, в общем, сохранена, но сами они существенно приглажены, «облагорожены».
Морализаторство на сказке, фактически, оплощает саму сказку, делает ее по сути неинтересной, неглубокой, шаблонной; рассматривается она с чисто сюжетной, поверхностной стороны, воспринимается страшно упрощенно, будучи искусственно притянута к современному мировоззрению.
К чему это приводит?
Мы наблюдаем с вами сегодня следующие явления:
Правда, в последнее время появляются исключения:
Так в чем же тут дело?
Сказка очень глубока и сложна. И по сути своей — имморальна. В сказке рассказывается о чем-то совершенно другом, очень серьезном и жизненно важном.
Если мы это хотя бы в какой-то степени, отчасти сможем понимать, может быть, мы сумеем открыть сказку в ее подлинной сути и для ребенка и, что не менее важно, для взрослого читателя — родителя.
То, что я говорю, не просто какая-то самостийная выдумка, самодеятельность. Дело в том, что у нас всерьез сказками много занимались фольклористы, этнологи, и в этой области сделано немало интересного. Пожалуй, самыми выдающимися были работы В. Я. Проппа («Исторические корни волшебной сказки», «Морфология сказки» и др.). У него было много учеников, да и он сам в какой-то степени опирался на предшественников — того же Афанасьева, который написал несколько томов, посвященных славянской мифологии. Сейчас очень усердно изучается в школах античная и восточная мифология, а ведь у нас самих есть богатейший фольклорный материал. Знакомиться с ним лучше бы не через «модные» в последние годы многочисленные словари и сборники «славянских мифов» — это, как правило, весьма недобросовестные издания.
Вообще эта область науки очень серьезная и сейчас она очень продвинута вперед в литературоведческом, культурологическом направлениях. Кроме того, существуют зарубежные работы этой же тематики.
Но прежде чем говорить о роли сказки, о том, какую огромную информацию она на самом деле несет о фундаментальных закономерностях жизнеустройства, поговорим о самих этих закономерностях.
В чем, собственно, основа жизнеустроения? Можно по-разному к этому подходить: одни считают, что это ценности (аксиология), другие — правила поведения, нормы общения и т. д.
Мы же будем рассматривать вот что: самую общую, фундаментальную основу устроения жизни — любой (и прошлой, и нынешней): это наличие как бы двух миров (то, что культурологи называют бинарной оппозицией) —
Здесь под «миром» мы понимаем некую совокупность явлений, реалий, феноменов, а не какое-то пространство, территорию.
Что такое повседневность, обычный мир, в котором мы живем, объяснять как будто не надо. Это нечто привычное, достаточно понятное, объяснимое, почти ежедневно воспроизводимое, не вызывающее сильных чувств и удивления.
Интересно другое — что такое сверхобычный мир, антипод повседневному, который, повторяю, всегда присутствует в жизни. Жизнь обязательно состоит как бы из двух уровней, в чем-то противоположных, или даже противоречащих друг другу, причем ясной границы между ними провести нельзя. Жизнь всегда находится в некотором напряжении, всегда есть либо борение, либо некое как бы взаимное стремление этих двух миров.
Антиподы повседневности — это что-то таинственное, не очень часто встречающееся, вызывающее удивление, иногда страх, восторг, энтузиазм, ощущение причастности к чему-то гораздо более значительному, чем наши привычные интересы и даже наша жизнь.
В старой культуре, которая сильно пронизана религиозным мировоззрением, эта двухуровневость была достаточно очевидна. Вот как говорит об устроении жизни один из крупнейших американских философов 19 века Уильям Джеймс: «Видимый мир является лишь частью иного, духовного мира, в котором он черпает свой главный смысл. Истинной целью нашей жизни является гармония с этим высшим миром.»
Кстати, основная функция культуры, ее цель и значение в том, чтобы устанавливать, нормировать, упорядочивать и гармонизировать соотношения между двумя мирами.
И когда эти установившиеся отношения нарушаются, то это приводит к кризису культуры и даже развалу общества, что, кстати говоря, мы отчасти можем наблюдать сегодня.
Приведу еще слова старца Зосимы из «Братьев Карамазовых»: «Много на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром. высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных.»
Вот свидетельства двух совершенно разных во всех отношениях людей, выражающих представление старой культуры о существовании двух уровней жизни с приоритетом сверхобычного.
Зададимся вопросом: может ли эта двухуровневая модель быть применена к современному жизнеустройству?
Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем понять, что же такое сверхобычный мир (в обобщенном понятии). В разные эпохи, у разных народов, у разных групп людей это могли быть очень разные вещи.
Где он находится, этот сверхобычный мир? Сам вопрос «где» может быть неправомерен, потому что он предполагает, что сверхобычный, принципиально иной мир можно исчислить и определить мерами и измерениями обычного мира, где все привязано к пространству, месту, времени.
Особенность сверхобычного как раз и состоит в том, что он есть, но его, одновременно, как бы и нет.
Что я имею в виду? Сверхобычное — это всегда что-то очень важное для нас, а ко всему важному мы относимся как к чему-то реальному. Вместе с тем, одной из характеристик реального является привязанность к месту и ко времени. С другой стороны, реальное это то, что привычно, понятно. И вот тут возникает парадокс: сверхобычное обладает совершенно противоречивыми чертами, оно реально и нереально одновременно, оно есть и его нет.
Например, иной мир находится в тридевятом царстве, за тридевять земель, в дремучем (дрема — сон, небытие) лесу, на краю света, на островах блаженных и т. п. — то есть он вроде бы где-то находится, и в то же время нигде не находится — его нет в мире повседневности. Гагарин смотрел на иной мир глазами повседневности, когда заявил (или ему приписывают эти слова), что в космосе Бога нигде не увидел — значит, Его вовсе нет. Его нет в мире обычном. Согласно христианскому пониманию, иной мир — мир невещественный, вневременной и внепространственный.
Как правило, в сверхобычном мире сосредоточиваются представления о наиболее желаемом, важном, ценном, священном, то есть там пребывают некоторые, как мы их называем, духовные, нравственные ценности, какие-то идеалы — высокие, трудно достижимые образцы. В обычном мире их нет, люди в повседневности не живут, да и не могут жить по этим идеалам. Они, правда, могут к ним стремиться, и вообще, косвенное воздействие на человека идеальное обязательно оказывает и в чем-то проявляется, т. к. в нормальной культуре обязательно поддерживается какая-то связь между мирами.
Рассмотрим в качестве примера заповеди Христовы.
Одна из центральных заповедей гласит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. » Осуществляется ли это в обычном мире? Не будем говорить, можно ли это осуществить вообще или нет. Но на практике буквальное следование этой нравственной парадигме встречается крайне редко. Тем не менее люди считают себя христианами. Что же они, плохие христиане? Дело в том, что это некий идеал, начертанный где-то в сфере сверхобычного. Достижим ли он? Известно, что кому-то это удавалось. Кто такие христианские подвижники, святые, о которых сегодня так много пишут и говорят? — Это люди, живущие на самом деле в огромной мере вне обычного мира, люди с совершенно иными представлениями, нормами поведения и проч. (см. юродивые). Не оттого ли обыденному сознанию они часто кажутся странными («из стран иных»), «ненормальными»?
Или возьмем такие заповеди, как «Не противься злому. И кто захочет судиться с тобой, и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. » Ведь ясно, что общество не живет, никогда не жило и как будто бы вообще не может жить по этим предписаниям.
Теперь рассмотрим еще один, близкий нашему времени, пример совсем из другой области.
Коммунистический идеал — построение бесклассового общества, где каждый может получать все, что он хочет и отдает все, что может, где все живут в мире и справедливости, изобилии и благоденствии, где нет «ни болезни, ни печали, ни воздыхания. » Мы не будем ставить вопрос, осуществим ли в принципе этот идеал или нет. Важно другое: в обычном мире этого нет и никогда не было, даже на «стадии развитого социализма», пережитой нами при тов. Брежневе. Потому что в действительности это сфера сверхобычного.
Этот идеал помещен куда-то в будущее. Будущее же обладает одним из признаков сверхобычного — парадоксальностью: оно вроде бы есть (ведь будет же!) и в то же время его нет.
То же самое можно сказать и в отношении прошлого. Если к прошлому подходить не просто как к воспоминанию, а как к чему-то для нас очень важному, то есть искать в нем ценные для нас идеалы, что-то, что оказывает на нас большое влияние, — то получится, что для нас имеет большую значимость то, чего нет. Отсюда множество всевозможных утопий, преданий о некоем бывшем когда-то Золотом веке, прекрасной стране Аркадии, Эдеме и т. п.
Вообще, что такое есть или нет?
Ад и рай — есть или нет? Коммунистический идеал светлого будущего — есть или нет? Ведь «пощупать» их нельзя, они невещественны, нереальны в обыденном понимании реальности, как чего-то материального, осязаемого. Тем не менее все эти феномены оказывали и оказывают колоссальное воздействие на человека, направляют его мысли и поступки. То есть это некая реальная сила.
Пора наконец признать, что реальностей — много, но они разные, мысль не менее реальна, чем стол.
Примеры сверхобычного мы можем найти в изобилии в искусстве — ведь это именно то, что нас потрясает, удивляет, восхищает, заставляет рыдать или смеяться.
Сверхобычное наличествует и в научном знании. Многие ли могут похвастаться пониманием современных физических теорий или достижений других наук? И не потому, что чему-то не научились, а потому что эти современные научные достижения представляют собой совершенно парадоксальные явления с точки зрения повседневного сознания. Всего один пример: может ли тот факт, что один килограмм радиоактивного вещества превращает в пепел огромный город, укладываться в наше обыденное понимание?
И вот теперь обратимся, наконец, непосредственно к сказочному материалу, причем нас в основном будут интересовать так называемые волшебные сказки.
Сюжетная схема большинства волшебных сказок такова: герой отправляется за чем-либо в тридевятое царство или случайно туда попадает, получает там, пройдя ряд испытаний, чудесные дары или свойства и возвращается обратно.
Упрощенно-схематично это можно представить как «нырок» и «выныривание».
Существуют разные варианты этого сюжета, но какие-то особенно существенные, важные его фрагменты и детали остаются практически неизменными.
Обратим на некоторые из них внимание:
Таким образом, мы видим, что сказка указывает на приоритетность иного мира по отношению к здешнему, ибо в ином мире находится все самое ценное и желанное для человека.
Приоритетность сверхобычного очевидна и для многих современных людей, ценящих науку, преклоняющихся перед знанием, миром искусства, Божественным миром или миром высоких общественных, нравственных идеалов.
И вот теперь мы подошли, пожалуй, к самому любопытному.
Оказывается, сказочная структура («нырок») заложена во всевозможных обычаях, обрядах (праздник, свадьба, похороны. ), присутствует в сфере житейских представлений.
Сверхобычный мир как бы вкрапляется в мир житейской повседневности, священное присутствует в профанном, но обязательно ограждено и выделено особыми чертами, заметно же может быть только посвященному (например, иконы в обстановке дома, церкви в контексте современной улицы и т. п.).
Всевозможные обряды, обычаи и нормы как раз и призваны отметить и закрепить этот момент «нырка» — перехода, то есть сообщения между мирами, момент приобщения человека к сверхобычному, свидетельствовать о нем.
Ибо, повторю, культура, фундамент которой составляют обычаи, устанавливает посредством этих обычаев соотношения между мирами, предоставляет человеку возможность нормально существовать в этой двухуровневой структуре жизни.
В сказке сверхобычное представлено разными способами.
Как, действительно, обычному человеку, пользуясь образами и представлениями здешнего, повседневного мира, обозначить инаковость сверхобычного, непохожесть его ни на что в обычном мире? Традиционный прием — гипербола. Есть еще один способ — представить иной мир как бы наоборотным — прямой, зеркальной противоположностью здешнему.
В сказочном ином мире — иные, наоборотные правила и законы. И уж коль скоро ты вошел в соприкосновение с иным миром, ты должен эти правила знать и уметь выполнять.
Кстати, сам герой тоже, как мы знаем, необычен. И на эту его необычность, наоборотность, причастность иному миру указывает то, что он почти всегда младший в семье, а по сказочной роли — главный, тогда как в жизни, наоборот, главный — старший. В Евангелии сказано: «Последние будут первыми». Затем эта максима была использована в революционной идеологии: «Кто был ничем, тот станет всем» — то есть идеал был отнесен к миру сверхобычному.
Обратимся к фольклору.
В быличках, например, сказывается, что если, заблудившись в лесу, встретил лешего и спросил у него дорогу, то ступай в сторону, противоположную той, что он тебе указал.
В сказках, если Баба-яга или Морской царь предлагают герою в награду самого лучшего коня или самую красивую из дочерей, то следует взять наихудшего коня и дочь-замарашку (они же потом оказываются наилучшими: «младший» Конек-Горбунок и два прекрасных его брата — коня и др.).
В сказке «О кладе и болтливой бабе» мужик, очутившись в лесу — тоже образ иного мира, — все делает наоборот, по-дурацки («что ни делает дурак, все он делает не так»: дурак — «ненормальный», он «не от мира сего»): в силки запихивает щуку, в невод запутывает зайца, на деревья развешивает блины.
Иногда герой пятится задом, как Иван в «Коньке-Горбунке», садится на кобылу задом наперед и т. п.
Все эти представления об ином мире, как о мире наоборотном, и о том, как себя вести, отразились и во многих обычаях.
Почему, скажем, принято завешивать зеркала, если в доме покойник?
Когда где-то в 18 веке в русский обиход стали входить зеркала, отношение к ним простого народа было настороженным и осуждающим. Почему? — Потому что в зеркале все наоборот, у смотрящегося возникает какая-то связь с иным миром, причем связь, неапробированная обычаем, сознанием, неосвященная церковной традицией. Такая связь особенно опасна, когда в доме умерший. Последнее означает смешение здешнего с потусторонним. Недаром, ощущая значительность и ответственность происходящего, люди обыкновенно так внимательны ко всякого рода неписаным правилам, приметам, появляется боязнь что-то не так сделать, не то сказать. Все действия в это время — время перехода — должны быть особенно строго регламентированы. Именно обычай, обыкновение имеют ограждающую, защитную функцию.
И то, что покойника выносят вперед ногами, закрывают ему глаза (а преступнику завязывают перед казнью) — все указывает на то, что умерший уже в ином мире и не должен глядеть на нас оттуда, с той стороны (глаза в чем-то аналогичны зеркалу).
Вообще переход из одного состояния в другое, в частности, из этого мира в потусторонний, должен рассматриваться как окончательный — возвращения не должно быть, для обычного человека оно может быть опасно. Возвращения — очень редкие — чрезвычайные! — случаи, осмысленные и регламентированные Церковью. К таким случаям относятся явления святых, Божьей Матери, предполагаемое воскрешение мертвых в конце времен (согласно Библии). А привидения, упыри и т. п. — это возвращения вопреки обычаю и потому имеют дурные последствия. Нельзя возвращаться с полпути, здороваться или прощаться через порог (это символическая граница между здешним и иным мирами) — нельзя разрушать сакральность совершенного переходного обряда. Нельзя оглядываться (жена Лота, Эвридика), ибо взгляд — это установление связи, и это уже возвращение.
Все это реликты древних культурных представлений.
Иван-царевич возвращается из иного мира потому, что он герой и может то, что не под силу обыкновенному человеку.
Но и с обычным человеком, хотя и очень редко (переход сакрален, потому уникален и может быть только единожды), но это все же случается, что тоже освящено обычаем. Эта тайна временного приобщения к иномирию заключена, например, в крещении или в свадебных обрядах.
Погружение в воду (ср. «нырок») при крещении означает символическое погружение в потустороннее (пророк Иона, Садко, Иванушка в котле с кипятком и т. п.).
Что касается свадьбы, то здесь это увидеть сегодня не так просто, а лучше разглядеть в старинном обряде, некоторые элементы которого, впрочем, сохранились. На то, что невеста на время как бы переходит в иной мир («браки заключаются на небесах»), указывают следующие черты:
Возвращаясь («выныривая») из иного мира при крещении, оставляя там «ветхого» человека, рождается новый, просветленный Св. Духом («чудесными дарами» — аналогия со сказкой).
Совершив свадебный обряд и вернувшись из иного мира, человек оказывается приобщенным к тайнам и мудрости своего нового — семейного — состояния. В разных культурных и религиозных системах существует представление, что благословение и продолжение рода дает иной мир — предки, божества, Бог.
Таким образом, все самое значимое, жизненно важное для человека сопряжено с миром сверхобычным, во всяком случае, это явствует из многих обычаев, рожденных многотысячелетним опытом человечества.
Вот что — в самом общем виде — представляет собой сказка с точки зрения культуры.
Действительно, сказка — это как бы шифровка, некая тайнопись. За простыми, яркими образами и незамысловатым сюжетом часто скрываются очень глубокие, сущностные представления и серьезные смыслы.
Умеющему читать сказку, чувствовать и проникать в ее сокровенные глубины открывается понимание чего-то очень важного и в устроении мира в целом, и в человеческом существовании.