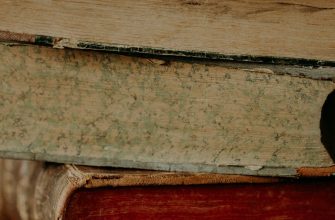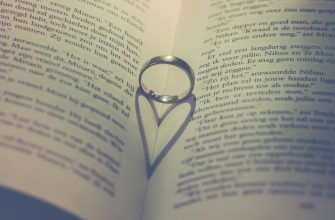Сказки лесного заволжья афоньшин
Одна изба в Городце по утрам и вечерам трубой дымила. Русская печь с широким челом жаром дышала, а перед ней молодая прянишница Данька хлопотала. А старая мать звонариха в сторонке сидела, глядела и радовалась. И тихо напевала свою песню-раздумье:
Потом и другие умелые люди переняли и перехватили пряничное дело. Еще сильнее запахло над Заволжьем и всей Русью городецкими мятежными пряниками. Синий камень, на котором Данька-прянишница плясала, царских ярыжек обморачивая, и сейчас прячется в заволжских лесах у села Чистого Поля. Как втоптала его плясунья, так и лежит, только макушка из земли видна. Ручей, что мимо Синего камня бежит, люди исстари речкой Пьяной зовут. А вокруг Синего камня, по полям и перелескам «Данькины неудачи» — мелкие голыши пораскиданы. В старину на чистопольщине их «городецкими пряниками» звали и, чтобы пахать не мешали, на меже в кучки собирали.
Сказ о плотнике Евлахе
Запрятались, притаились в лесном Заволжье гнезда раскольников, упрямых ревнителей благочестивой старины, духовных деток Аввакумовых, И курились над прикерженьем редкие дымки скитских поселений. Совсем недавно гулял по просторам Поволжья удалый яицкий казак с огнем и мечом, с петлей для угнетателей и царских прислужников, ходил-бродил еще по русской земле мятежный дух голытьбы.
Ой, плохо спит по ночам мать Макрида, игуменья. Вот и сейчас она не спит и не молится, а перед окном стоит и в сумерки глядит. В руках ее четки замерли, на лице забота, в глазах печаль. Перед божницей свеча горит, в келье тишина, полумрак, да и в сердце хозяйки сумрачно. Великий пост кончается, страстная неделя подходит, а страсти человеческие — вот они, за спиной стоят, на сердце лежат. Трудновато стало игуменье блюсти затворниц-келейниц, молодок в черном одеянии, да не легче и за собой уследить. Всего-то ей тридцать лет исполнилось, еще жить бы и жить в миру, молодостью тешиться, а не тосковать в скиту затворницей.
А бес-искуситель, этот враг рода человечьего, не сидит без дела и все соблазны придумывает да каверзы устраивает. Всех окрестных парней из-за монашек до драк перессорил. Блохой либо клопом обернется и монахинь в постели донимать начнет. Проснутся молодые келейницы и слушают, не свистит ли соловьем в кустах душа-зазноба? Накинут платок на плечи — да из кельи вон: «Ой, клопы заели, моченьки-терпенья не хватает в келье спать!» А соловей-молодец только этого и высвистывал. Не унимается бес-соблазнитель ни на день, ни на час. Купцам-толстосумам, что приедут в кельи грехи замаливать, в зелено вино дурмана подсыплет. Как выпьют бородачи-староверы, так и о молитвах забудут. Вместо поклонов перед иконами в кельи стучатся, к монашкам ночевать просятся. Ох, велика забота у Макриды, игуменьи скита кержацкого! Как скитниц-келейниц молодых да и себя, грешную, от соблазнов мирских уберечь?
За окном стало совсем темно, в ельнике по-весеннему гулко филин заухал. Месяц рогатый с подружкой звездочкой готовы за лес спрятаться и горят, пристроившись на вершине дальней ели. В селенье за рекой погасли последние лучики-огни, стало совсем тихо вокруг скита кержацкого, только в овражке под снегом бойкий ручеек журчал, пробиваясь навстречу с рекой. Молча догорает свеча перед божницей, молча перебирает четки-листовки игуменья. Заснула вся обитель Макридина, и снятся монашкам грешные сны. В своем березовом креслице задремала игуменья. Вдруг тихо, без скрипа открылась в келью дверь дубовая. Пригнувшись в дверях, широко шагнул через порог парень Евлаха, бобылкин сын, плотник золотые руки. Чуть кривоног, длиннорукий, а в плечах полтора аршина. Шапку держит в руке. Вороная прядь волос на глаза свесилась, а в глазах добрый огонь — так и греет! Словно сам бес-соблазнитель в обличье мужском прокрался в келью игуменьи. Очнулась она от дремоты и чуть не вскрикнула.
Текст книги «Сказы и сказки нижегородской земли»
Автор книги: Сергей Афоньшин
Сказки
Текущая страница: 16 (всего у книги 16 страниц)
Край легенд и сказов
Послесловие
Люблю родной Нижний Новгород. Город Горького и Добролюбова, Свердлова и Заломова, отчизну Минина и Кулибина. Каждый раз когда поднимаюсь от Волги к вершинам загадочных Дятловых гор, меня неодолимо влечет к стенам нижегородского кремля. Хочется разглядеть и ощупать руками их древнюю кладку и приложиться ухом: не расскажут ли они, как живые очевидцы, одну из чудесных былей нижегородской земли? Чудится, что безмолвные башни и стены могут поведать легенды и сказы без колдунов и чародеев, но полные дикой красы из жизни пращуров-нижегородцев. Каждый камень крепости побывал в руках людей, чья жизнь и судьбы для нас теперь так же интересны и загадочны, как посланец из другого мира.
Много раз я бывал у подножия нижегородского кремля, ходил по стенам, разглядывая башни, и думал, и думал. В ответ они так привыкли ко мне, что шепнули самое сокровенное: тайну Потайного оврага, трагедию башен Зачатия и Белокаменной, о Дятловых кузницах и кузнецах, подковавших злых татаровей. И много других былей из жизни Нижнего Новгорода, города трудной и славной судьбы.
С крутого откоса, где изваянный из камня великий нижегородец по-соколиному смотрит в небо, открываются взору дали лесного Заволжья. За голубоватой дымкой дремлет на горизонте зубчатая стена леса. Край сосновых боров и еловых раменей, озорных студеных речек и непроходимых болот. Лес-батюшка, лес-кормилец, лес – отец родной. Надежное убежище мятежной голытьбы, бежавшей от царских воевод, пыток и виселиц. Земля обетованная духовных детей неистового Аввакума. Край хлеборобов, кузнецов, плотников и лесорубов, кустарей-художников и ложкарей, искусных умельцев на все руки.
Круглыми щитами сверкают под солнцем в нижегородском Заволжье провальные озера, очаровывая не только видом своим, но и названиями. Вот дикий, в пустынных берегах Ардин Яр. Строгий Козьмояр в рамке торфяных болот. Изияр и Чернояр – отцы двух нелюдимых речушек. Вероломный красавец Настияр, родивший легенду «О лебедушке Настасье». И легендарный Светлояр, сверкающий несравненной жемчужиной среди своих собратьев.
Светлояр-озеро. А на дне его Китеж-град и тихий звон колокольный, как дивная музыка звона вечернего. Не верится? Но побывайте на старце озере, походите по его холмам и окрестностям. Немало легенд, сказов и сказок шепнет вам Светлояр, если сумеете заглянуть в глубину старины. Надо только помнить две истины: у старины свое очарование, и приукрашать ее – значит портить. И что старина беззащитна, поэтому прикасаться к ней надо бережно, добрыми и умелыми руками.
Родился и вырос я в селе у самого Светлояра. Отлично помню ежегодные ярмарки-гулянья, вереницы паломников на тропах ко граду Китежу, ползанье богомолок вокруг озера, религиозные споры под деревьями. Под темным обрывистым берегом торчали из воды три дубовых столба. Старые люди называли их коновязями и рассказывали, что давным-давно они стояли у монастырских ворот. Привязанный к ним богатырский конь бил в землю копытом и свалил гору вместе с церквушкой в озеро. И показывали место оползня, которое заметно и до сих пор и послужило началом «Сказа о коне Сарацине».
Среди зыбучей поймы бежит мимо Светлояра потайная лесная речушка Кибелек. Подземная вода здесь на свет просится, топкие берега куполом выпячивает, прорываясь родниками да ключами. В старину о таких местах говаривали: «Это супостата Кибелека с войском от святой воды распучило!» И ставили у зыбунов над родниками можжевеловые кресты либо смолистые столбики. И сейчас еще сохранились на той речке немудреные памятники старины. Да осталось сказание о том, как хана Кибелека с воинами от град-китежской воды распучило, – «Сказ про воеводу Хороброго».
В молодости мне довелось учительствовать в сельских школах Семеновского уезда. Это там, где в керженских лесах таились деревни Карельская и Кельи, Монастырь и Пустынь, Комаровской скит и Елфимово, Дубравы и Плюхино. В двадцатых годах этот край еще дремал, по-дедовски пахал и сеял, делал ложки, кадки, матрешки и валенки. И молился по всем правилам староверского благочестия. Были в деревнях доморощенные старообрядческие попики и моленные избы. Это не мешало людям в долгие зимние вечера вспоминать и рассказывать бывальщины из старины.
Деревенька Плюхино. Старый бондарь Яков Ермилович стучит и гремит в мастерской, набивая обручи на кадку. Его четыре сына, постриженные по-староверски, наперебой стучат и строгают. Огонь висячей керосиновой лампы вздрагивает от стука. Когда все заметно уставали, а у младшего сына Макаруньки начинали слипаться веки, Яков откладывал инструмент: «Рассказать вам бывальщину про игуменью Манефу? Как она беса-соблазнителя заставила собачий хвост разгибать». Макарунька забирался на просторную печь и слушал из-за трубы. Сосед Федюха Ольгин располагался поудобнее на полу. Старшие сыновья переходили на тихую работу, строгали обручи и скептически улыбались: «Слыхали, мол, такую историю!» Рыжий пес Балетка и кот Митрошка выбирались на средину пола и не сводили глаз с хозяина.
Староверский книгочей Иван Кокин доживал свой век в старой почерневшей избе среди деревни Елфимово. Это только через речушку от Комаровского скита. Жил одиноко, но в избе было чисто прибрано, в углу под божницей лежали толстенные божественные книги, а по полу ходил, выгибая спину, черный кот. И сам хозяин был когда-то черноволосым, но поседел и очень смахивал на стрельца с картины Сурикова, что сидит в телеге со свечой в руке. Сказку про мать Манефу и плотника Евлаху он еще в молодости слышал.
– Только не сказка это, а бывальщина. А что охальники в ней насчет беса да собачьего хвоста приплели, так это на них грех!
Оживившись и разговорившись, старик спросил:
– А слыхал ли ты бывальщину о том, как наш мученик Аввакум антихриста Никона пряником донимал? Вот как идти от нас просеком, что лесом на Чистое поле выходит, придешь к самому Синему камню, на коем городецкая пряничница плясала, никонианских собак телесами ослепляя. Сходил бы – прямиком-то недалеко. Как выйдешь на Пьяный ручей, тут тебе и Синий камень!
На прощанье старик рассказал мне, как пройти к Евлахиной часовенке. Срубленная из отборных сосновых бревен задолго до того, как появилась пила, часовня почернела от времени, но стены ее были крепки, как кость. Казалось, само время берегло память о бескорыстном плотнике Евлахе.
Давно живет в заволжских лесах городок Семенов, столица кустарей-ложкарей и хохломской росписи. Разговор об истории своего города семеновские старожилы обычно начинают с первожителя – старца Симеона, присуждая ему разные звания: то мятежного стрельца, то беглого монаха, то отшельника из раскольников. И ясно, что старец относится к этому безропотно – стрелец ли, монах ли, спорить не будет. Мне же подумалось, что для старика было бы приятнее и почетнее быть не монахом, не староверским бегуном, а первым ложкарем в заволжской стороне. И написал «Про Семена-Ложкаря». Семеновцы должны быть благодарны этому старику не только как первожителю и основателю города, но и за то, что оставил о себе хорошую сказку.
«Наша-то Керженка – она речка не простая, загляни-ка в нее поглубже!» Так говорят о своей реке кержаки. Это верно, что не простая.
Я прожил на самом берегу Керженца тридцать лет и три года, как в сказке, в избушке, стоявшей к лесу задом, к реке передом, и мог заглядывать в эту глубину кержацкой старины. За много веков до меня на этом месте жил, наверное, человек неолита. Это он оставил тут кремневые топоры, скребки и наконечники стрел, которые я находил под берегом реки и на своем огороде. Только клада с украшениями хозяйки Дикой реки так и не нашел. Один из скребков и описан в «Сказании о Керженце».
Нижегородская земля – край легенд и сказов, заброшенных и забытых. Это самые дорогие клады, только надо уметь их видеть. Как драгоценные камни-самоцветы, их надо поднимать, очищать от пустой породы, умело шлифовать и гранить, чтобы каждая грань заиграла огнями народной смекалки, чести, добра и мужества.
Сказки лесного заволжья афоньшин
Памяти дочурки Дины
Сказ о яростном олене
В летописях об этой истории ничего не записано. Видно, святые отцы-монахи тут промаху дали либо не успели, из-за недосуга. Это они напрасно. Такие дела да случаи без внимания обходить — все одно что народ без сладких пирогов держать.
Из старых книг известно о том, как во время похода грозного царя Ивана на супротивную Казань, дикие звери — лось да олень — для войска подспорьем в харчах были. Все воины с дикого мяса силы набрались, вдвое храбрее стали и поэтому под Казанью долго не копались. Это не мудрено, такому и поверить можно. А вот кто добывал для войска тех диких зверей, о том ничего не сказано.
Если рассказывать без утайки, то дело так было. На пол-дороге к царству Казанскому отрядили воеводы царские дюжину охочих стрельцов, чтобы добывали они, попутно, для царя, воевод и бояр свежинку к столу. Был конец лета, а по-старинному к успеньеву дню все олени — и сохатые, и рогатые — дикой силы и храбрости набирались, без устали по лесам ходили и на особых боевых урочищах яростно копытом в землю били, врага на бой вызывая. В эту пору бывалому охотнику зверя добыть не трудно. Только те двенадцать московских бородачей напрасно по лесу с пищалями ходили, ничего не видели и не слышали. Под конец нашиблись они на паренька-подростка, что сидел в лесу у костра и лосиную губу кусочками на прутике поджаривал. Подсели стрельцы к огню, парень их ядреной лосиной угостил. Поели и спрашивают:
— Да ваши же люди порасхватали, поразнесли! Кому свежинки неохота?
Завидно стало царским людям, что подросток с луком да стрелой ловчее их и смекалистее, и стали выспрашивать, как он оленей добывает. Но парень своего секрета не выбалтывал, одно сказал:
— Видно, вы по-коровьи реветь не умеете!
Переглянулись стрельцы, ничего не поняли и поволокли подростка к царским шатрам. Вышли из шатров бояре да воеводы бородатые, а один молодой, но грознее всех, в доспехах боевых. Самый старый воевода стал подростка спрашивать, какого он роду и племени, а если холоп, то какого боярина. На это ответил парень, что вырос он у самого Нижня Новгорода, отца с маткой не упомнил, племени холодаева, рода голодаева. Так и в народе его кличут — «Холодай-Голодай, по лесам шагай». Луком да стрелой себе пропитание добывает и добрых людей не забывает. Тут спросил воевода бородатый:
— А царя своего отчего забываешь? Не худо бы и к царскому столу свежинки добыть!
— А почто царю на боку лежать? Пущай по-коровьи реветь научится, свежинка к нему сама придет. А как посидит ночь на ярище, дичина слаще покажется!
Тут самый грозный да молодой воевода, усмехнувшись, сказал:
— Ладно, попробует царь по-оленьи реветь, было бы у кого поучиться!
И тут же приказал коней седлать, на лосиную охоту собираться. Вот и повел подросток царя на охоту в леса нижегородские. Не доезжая до урочного места, коней со стражей оставили, а сами пешком через болото пошли, до дикой сосновой гривы. Там Холодай-Голодай лосиное ярище разыскал, засидку на двоих сделал, царя рядом посадил и, пока засветло, стал учить его сохатых оленей подманивать, лосихой клохтать. Сдавит себе горло руками и охает дико: «Ох! Ох!» — как лосиха квохчет. Потом царю говорит:
— Ну, теперь ты, боярин, попробуй!
Начал царь Иван лосихой охать, да что-то плохо получалось. Сердился Холодай-Голодай:
— Эка голова скоморошья! Ты не по-гусиному охай, а по-лосиному!
И снова учил царя сохатых оленей подманивать. К ночи научился царь лосихой реветь не хуже, чем Голодай!
Оба тихо сидели, урочного часа ждали. Вот и спрашивает тихонько подросток:
— Ты, боярин, хоть старый ли?
— На Иванов день двадцать два минуло.
— Вона как! А мне шестнадцать либо меньше чуть. Однолетки почти!
Когда стемнело совсем, месяц над лесом поднялся, а болото туманом окуталось, и грива сосновая островком в белом море казалась. Тихо сидели. Чуть ворохнется царь Иван, как Голодай его в бок толкал и кулаком грозился:
— Сиди, боярин, тихо, не вокшайся!
Начал царь всея Руси сохатой коровой охать-реветь. Ничего, хорошо, очень похоже получалось! Когда поохали попеременно, то царь Иван, то Холодай-Голодай, вышел из тумана на гриву страшенный лосище с огромными рогами. Остановился на ярище, обнюхался, прислушался и начал копытами землю копать да бить. Загудела земля, как живая, а глаза звериные при месяце разными огнями светились. И так разъярился сохатый, на смертный бой противника вызывая, что царю с непривычки жутко стало. Схватил он свою пищаль дареную аглицкую и напропалую выстрелил. Замер зверь, насторожился, глазами и слухом врага разыскивая. Тут паренек Голодай тугой лук натянул, зыкнула тетива и задрожала стрела, пронзивши лосиное сердце. Задрожали ноги сохатого и, вздохнувши шумно, свалился он на белый мох.
Немедля, при свете месяца, начал охотник добычу свежевать, а царю сказал:
— Неча, боярин, без дела сидеть, доставай огниво, разводи костер!
Пошарил грозный царь Иван по карманам — нет огнива!
— Какой же ты вояка, без огнива на татар идешь! — попенял Голодай и живо костерок развел. Потом лосиную губу на кусочки разрезал, на прутики повтыкал и спросил:
— Нет ли сольцы, боярин?
Но соли у царя в карманах не оказалось.
— Какой же ты охотник без соли?
Достал Голодай из сумы тряпочку, высыпал остатки соли на царское кушанье и начал обжаривать.
А тут и солнышко взошло, пригрело, и заснул царь Иван у костра на беломошнике. И приснился ему диковинный сон. Будто бы обложил он столицу Казанского царства кругом своим войском. Бьются воины русские головами о стены Казани, и колоколами гудят и звенят их шеломы. А татары со стен крепостных зубы скалят, насмехаются, гогочут и ржут по-лошадиному. Вдруг из тумана седого, что над берегами волжскими плыл облаком, показался сохатый олень, да такой большой, что вся Казань у него под брюхом оказалась. Как начал тот лось яростно копытами бить да рогами бодать, и полетели к небу камни крепости, дворцы и мечети, ханы и ханши, мурзы и воины!
Проснулся царь Иван радостный, а когда поел жареной лосины с угольков да губы лосиной с вертела, почувствовал в себе силу и бодрость небывалую и сказал, что такой еды и по праздникам не едал. И в тот же день, вернувшись к шатрам, царь поставил Голодая старшим над всеми царскими охотниками, приказал во всем его слушаться, научиться сохатых и рогатых подманивать, чтобы мясом звериным яростным кормить воинов до самой Казани. Дело тут совсем ловко пошло. Войско вперед подвигалось, а охочие стрельцы под началом Голодая сохачей и оленей добывали. Скоро все воины, поевши вдоволь свежинки, силой и духом поправились и, придя под Казань, долго не мешкались и в осенний день покрова за один раз приступом взяли. Вот так и оправдался сон грозного царя Ивана. Яростный нижегородский сохач рогами разметал, ногами растоптал вражью крепость дотла.
После победы над казанскими ханами, на обратном пути в Москву, царь Иван в Нижний Новгород заехал, а московские бояре туда же прибыли царя с победой встречать да славить. И начался в столице земли низовской великий пир. В начале пира спохватился царь, про Холодая-Голодая вспомнил и разыскать его приказал. А когда того сыскали да привели, рядом с собой за стол посадил. Не по губе-то это боярам да царским слугам пришлось. Охотник не ведал о том, что простому человеку рядом с сильным мира посидеть не на радость да счастье выходит.
На пиру мед-брагу ковшами пили да вина заморские, студнем-холодцом лосиным закусывали. А как отведали московские гости-бояре жареной лосиной губы, сказали, что за всю жизнь слаще ничего не пробовали. На том пиру заморские гости были, своими землями, городами и гербами похвалялись. Вспомнил тут царь Иван, что обширные земли низовские никаким гербом не отмечены. И задумался сурово, очи прикрывши. В глазах его, как живой, стоял зверь красоты дикой, невиданной, яростно рогами бодал и ногой в землю бил. И тут же на пиру указал грозный царь, что быть Нижнему Новгороду и всей земле низовской под гербом сохача яростного, что помог ему казанскую твердыню взять. И вскоре появился на царских печатях и воротах нижегородского кремля буйный сохатый олень, бьющий в землю передним копытом.
Сказки лесного заволжья афоньшин
РИСУНКИ Г. НИКОЛЬСКОГО
Издательство «Малыш» 1974
КАК У ФИЛИНА УШИ ВЫРОСЛИ
Жила в избушке на краю села старушка — можжевеловый костыль, костлявые руки. Каждый день печку топила, с горшками воевала, сажей румянилась. За это её люди Чернопалихой прозвали. Была у старушки скотина — коза да кот. Козочка с утра до вечера по кустам паслась, молоко нагуливала, а кот на печке нежился. Третий непрошеный жилец филин-голован— жуткие глаза, мохнатые лапы — на чердаке таился. Жил тихо, голоса никогда не подавал, словно его и на свете не было. По ночам на добычу вылетал, а утром от солнышка на чердак прятался и смирно сидел на жёрдочке среди старухиных веников.
Вот как-то утром, пока Чернопалиха козу со двора в поле выгоняла, котофей с лежанки спрыгнул,
потянулся, со всел кринок крышки лапкой посбивал и сметану сверху слизал. Раскрыть кринки сумел, а покрыть, как было, не догадался. Сел на пороге и давай мяукать жалостно. Тут хозяйка вернулась. Только успела она дверь открыть, как кот ей под ноги шмыгнул — и на чердак, а оттуда в поле да в лес. Сразу смекнула старая, что не зря кот, как ошпаренный, из избы выскочил. Стала своё хозяйство проверять. Увидала, что кот-котофей натворил, и заахала и вслед за котом на чердак полезла, чтобы его проучить. Она и всегда-то глазами тупа была, а тут со света да в сумрак — совсем как слепая. Стала по чердаку шарить, нащупала костлявыми руками что-то мягкое и пушистое.
— Ага, попался, разбойник!—обрадовалась старуха.
А это филин был. И начала она драть филина своими чёрными пальцами за то место, где уху быть. Трепала и приговаривала:
— Это тебе за сметану, это тебе за сметану! Изловчился голован и царапнул Чернопалиху когтями. Только пуще рассердилась старая:
— Ах, ты ещё царапаешься! Это тебе за царапанье, это — за сметану!
Вырвался филин и спрятался в самый тёмный угол под крышей.
А бабка костылём стучала и грозилась 1
— Будешь теперь знать, как сметану слизывать! Котофей пропадал целые сутки, хозяйка о нём заскучала и, когда он явился, парного молока налила, приговаривая:
— Пей, милок, больше не стану за ухо трепать, только по кринкам не лазь!
На другой день, пока бабка куда-то отлучилась, кот опять кринки раскрыл и сметану слизал. Напроказил
и сел на порог хозяйку ждать. Чуть приоткрыла старушка дверь, как он в сени шмыгнул, из сеней на чердак, с чердака в поле да в лес. Всплеснула руками Чернопалиха, когда увидала, какую беду кот натворил, и, стуча можжевеловым костылём, за ним на чердак полезла. Нащупала в сумраке за трубой мягкое «да пушистое, с глазами как фонарики, и вцепилась в то место, где уху быть:
Чтобы отпугнуть старуху, филин ухать начал: „Бу-гу! Бу-гу!»
Но бабка не сробела:
И принялась драть да трепать филина ещё сильнее за то место, где уху быть, приговаривая:
— Это тебе за сметану, за сметану! Будешь знать, как с кринок крышки сбивать!
Пытался филин когтями оборониться, но старуха ловко за другое ухо перехватилась и ещё злее трепала:
— Кругом виноват, да ещё и царапается!
Еле вырвался филин и в самый тёмный угол запрятался.
А кот пропадал три дня и три ночи. Загоревала старуха и, когда проказник явился, не знала, чем его напоить, накормить. После того совсем избаловался котофей. Чуть старуха из избы — он сметану пробовать. А расплачивался за все его проделки чердачный жилец — филин-голован — круглая голова, жуткие глаза, мохнатые лапы. От старухиных потасовок у него над ушами перья вытянулись, огрубели, потемнели и стали пучками торчать, в виде кисточек, а глаза от страха стали совсем круглыми.
Покинул филин свой чердак и переселился в глухой дремучий лес. Там он и сейчас живёт — глазастый, ушастый, осторожный.
Чтобы какая бабка Чернопалиха с можжевеловой клюкой невзначай не зашла в его владения, филин ухает страшным голосом, пугая всех без разбора: „Бу-гу! Бу-гу!»
КАК ЗМЕЯ ГОЛОС ПОТЕРЯЛА
На солнечной поляне под лежачим бревном-коло-диной жила змея — плоская голова, длинный язык, злые глазки. Глотала зазевавшихся пташек, мышей, лягушек и, насытившись, бранила всех, кто проходил мимо. Голос у змеи был громкий, но неприятный, а зубы ядовитые, поэтому никто с ней в перебранку не вступал. И люди и животные знали, что под колоди-ной живёт змея, и опасливо обходили это местечко. Змее же только того и надо было. Она свивалась колечком на солнечном припёке и засыпала.
Вокруг змеиной колодины буйно разросся сердитый недотрога шиповник — колючие ветки, мягкие ягодки. И пташки, и мышки лесные любили полакомиться ягодами шиповника, да тут и попадали в ненасытное пузо змеи. А среди самого высокого куста свил гнездо соловушка — серый зипунок, лёгкие крылышки, печальные карие глазки. Свил гнездо над самой змеиной колодиной и страха не знал, сидя на ветке шиповника, песни распевал. Да так славно пел, что змея иной раз заснуть не могла от зависти.
Часто она подползала к пруту, на котором соловушка распевал, и, опираясь на хвост, вверх тянулась, будто послушать соловьиное пение. А у самой одна злая задумка была — проглотить соловья. Высоко подняв голову, змея раскачивалась из стороны в сторону, словно дивясь чудесному пению, втайне поджидая, не спустится ли певец пониже. Пробовала она дотянуться до соловьиной подружки, что на гнёздышке сидела, но тоже не доставала.
Занятый своей песней, соловей не догадывался о змеиной хитрости, поэтому распевал и прыгал на ветке без опасения. Зато колючка-шиповник вовремя разгадал замысел гадюки и начал торопливо расти вверх, чтобы змея не достала певца и его подружку. Но и змея не уставала подниматься на своём хвосте с каждым разом всё выше и чуть-чуть не доставала до веточки, на которой пел соловей.
„Ах, ты так, змея!» — с досадой прошептал шиповник. И в одну ночь вырастил на своих прутиках острые злые шипы. И когда гадюка вновь попыталась достать соловья, исцарапала о шипы свой живот. Она
бранилась от боли резким скрипучим голосом, но не оставляла своего замысла. А шиповник всё думал, как уберечь от змеи соловья.
И вот, когда наступили самые длинные дни, за одну короткую ночь каждая веточка шиповника загорелась лёгкими розовыми бутончиками, а рядом с ними выросли новые шипы, острые, крючковатые, безжалостные. В то утро соловьиная веточка себя тоже цветами разукрасила и сверкала росой, ожидая певца. И когда он на неё спустился, склонилась бутончиком вниз.
Змея подползла к подножию куста совсем неслышно, приподнялась на хвосте и стала разглядывать, за каким же цветком распевает соловушка. Вот что-то серенькое трепыхнулось на конце одной цветущей ветки. Злым броском гадюка приподнялась ещё выше и захлопнула свою пасть на цветущем конце ветки, где только что пел соловей. И тут почувствовала такую боль, словно собственные зубы вонзила себе в глотку. Она начала метаться, до земли пригибая прут шиповника. Змея шипела и хрипела от злости и, сообразив, что соловушка в её пасть не попал, рванулась, разорвала о шипы свой длинный язык и с колючей веткой в горле под свою колодину уползла.
Вот так, в пору самых долгих дней и коротких ночей, простой куст шиповника, которого все недолюбливают за колючки, не позволил змее погубить певца-соловушку. Змея никак не могла избавиться от колючек, которые заглотнула вместе с цветком. С той поры у неё совсем пропал голос, осталось одно шипение. А язык разорван на два кончика. И теперь все гадюки особенно злы, в жаркие летние дни, когда цветёт шиповник. Об этом давно знают жители лесной заволжской стороны.
КАК АНЮТКА МЕДВЕДЯ УБАЮКАЛА
Слыхано у нас на Керженце, что в давние времена медведь по зимам крепко и надолго не засыпал, побродит да поспит, подремлет да побродит. Всё чего-то он трусил да опасался. То дерево заскрипит, то дятел задолбит, то белка невзначай на медвежий нос шишку уронит либо сорока над самым ухом застрекочет. Мало ли в лесу разных скрипов, посвистов да шорохов! От страха да беспокойства косолапый на зиму до того тощал, что одна шкура на мослах оставалась, еле-еле мог из берлоги на солнечную проталину выбраться. Как медведь на всю зиму без просыпа заснул, о том в сказке рассказано.
Как-то летом один мужичок-кержачок в лесу лыко на лапти драл. Упарился, снял кафтан, шапку и на
пенёк повесил. А дочка Анютка, босые ножки, синие глаза, около ходила, ягодки собирала и песенку напевала. Вот утомился мужичок, лёг на траву и заснул. Тут медведь на то место прибрёл. Обошёл сиволапый мужичка с девчоночкой кругом, на кафтан да шапку, что на пеньке висели, боязливо поглядывал. И позавидовал мужику: „Какой ведь хитрый! Пока сам спит, двух сторожей поставил: один ходит да поёт, другой молчит да глядит! Вот и мне бы к зиме такое придумать!» Тут ветерок подул, кафтан и шапку на пеньке колыхнул. Струсил медведь и убежал.
Осенью перед морозами пошла Анютка в болото за клюквой, за спиной кузовок, на ногах лапотки. Подкрался к ней сзади медведь, сграбастал в охапку и в свою еловую вотчину утащил. Там, рядом с берлогой яму выкопал, девчоночку в неё поставил, по колени землёй завалил и накрепко лапищами кругом утоптал. „Вот так-то не убежишь!» Довольный своей придумкой, лесной боярин на свою лежанку повалился, а девчоночке Анютке наказал сказки рассказывать, чтобы ему сладко спалось.
С кузовком за спиной стояла Анютка по колено в холодной земле и дрожала, как тростинка сиротливая, от страха и холода. Пожалел её старый клён, что рядом стоял, и начал последние листья ронять, чтобы девочку от стужи укрыть. А медведь перед сном себе под нос ворчал да пятки зализывал. Только что задремал, как озорная белочка спелым жёлудем в медвежий нос угодила. Зарычал косолапый:
— Или забыла ты, девочка, что тебя тут сторожем поставили? Не умеешь сказки сказывать, так песни пой! Да так мой сон береги, чтобы сухое дерево не скрипнуло, мала птаха синица не пискнула, дятел бы не застучал, филин не закричал! А не убережёшь, так всю тебя землёй завалю, колодником придавлю!
И снова задремал сиволапый. А девчоночка Анютка, тяжело вздохнувши, песню запела, как умела, тихонечко да несмело:
Баю-баюшки-баю, Стихни всё в лесном краю! Месяц на небе взойди, Но медведя не буди, Тихо-тихо выплывай, Свет волшебный разливай! Звёзды на небо вспорхните И медведю подмигните! Полуночница сова — Глазастая голова, Колдовским крылом в тиши Над медведем помаши — Чтобы спал лесной боярин Вплоть до радости-весны!
Только успела Анютка свою песню допеть, как на небо круглый месяц плавно выкатился, весь лес осветил, а одним волшебным лучом упёрся в широкий медвежий лоб, чтобы сон медведя был спокоен и ровен, как свет месяца. Потом звёзды на небо выскочили и замигали всему миру лесному, чтобы никто не тревожил медведя ни скрипом, ни писком, ни шорохом и чтобы сон медвежий был долог, как луч звезды. Вот и сова — круглая голова из еловой чащи вылетела, над медведем бесшумно крыльями помахала, отгоняя всякие тревоги и страхи, чтобы спалось косолапому бездумно. И заснул лесной боярин сном спокойным, крепким и долгим.
А девчоночка Анютка стояла по колено в земле, медвежий сон стерегла. Как подумала она, что в тот час её всей деревней по лесу ищут, кричат да аукают, залилась слезами горячими. От тех горячих слёз подобрела вдруг вокруг её ножек земля, размякла и в стороны раздалась, а лапотки сами собой развязались. Выдернула Анютка из ямы свои ножки босые, кузовок на яму поставила, кацавейку с плеч да платок на него накинула. И полетела в одном сарафанчике в родную сторону! И все кусты и деревья, перед ней расступаясь, дорогу к дому показывали.
Прибежала Анютка домой в тот час. как родные о ней плакать перестали, и живо на печку забралась ножки отогревать. Стали допытываться отец с матерью:
— Где ты пропадала, синеглазая?
— У медведушки за сторожа была!
— А где кузовок, платок, кацавейка да лапотки?
— Да, чай, медведю на поглядочек оставила!
Не поверили родители, хотели ещё поспрашивать, да не успели, заснула Анютка на тёплой печке крепко-накрепко.
Вот с той-то поры и спят медведи в берлоге всю зиму, от осени до весны.
КАК КЛЕСТЫ С МОРОЗОМ ВОЕВАЛИ
Задумал боярин Мороз среди чистого поля ёлку поставить, чтобы под ней петь и плясать, зиму встречать и провожать. И послал Мороз одного мужичка-кержачка ёлку срубить, что среди леса чуть не до неба росла. Срубить и на Морозово подворье притащить.
Вот пришёл кержачок в лес, разыскал ту ёлку и поглядел на неё жалостливо. Очень не хотелось ему ради боярской утехи такую раскрасавицу губить. Пока стоял да раздумывал, спина начала зябнуть. Прислонился мужичок к ёлке спиной и задремал. Ель изо всей мочи грела кержачку спину, и так ему тепло стало, что заснул, сидя под ёлкой, крепко-накрепко.
Долго ждал боярин Мороз, терпенья не хватило,
— Где вы, жильцы мои проворные, пташки смелые, задорные? Добрый мужичок-кержачок отдыхает, а боярин Мороз его мёртвым сном усыпляет! Ко мне летите, кержачка обороните!
И побежал, как от ветра, шёпот-шумок по всему лесу, услыхали его нарядные пичужки с толстыми крепкими клювишками, и все к ёлке поспешили. И начали боярина Мороза со всех сторон щипать да клевать — и за нос, и за брови, и за усы, и за бороду! Так старались, что только клочья летели, не успевал отмахиваться. Долго Мороз от пичужек оборонялся, упарился, пропотел. И сразу в лесу потеплело,
а с ели капельки закапали. Испугался старик Мороз и пропал, словно в снег зарылся.
Тут мужичок-кер-жачок проснулся, кругом огляделся и радостно домой к ребятам побежал. А нарядные храбрые пичужки на ёлке расселись, ощипываться да охорашиваться начали, перышки в порядок приводили. И тут заметили они, что в драке со стариком свои носики покривили. Верхняя половинка клюва глядела в одну сторону, а нижняя в другую. Долго смелые пташки свои клювики выпрямляли, старались и так, и эдак, только напрасно, не выпрямили.
Но драка с боярином Морозом тем пичужкам на пользу пошла. С той поры все птахи-клесты никаких морозов не боятся, даже птенчиков своих зимой выводят. А кривые носики им тоже очень пригодились, такими клювиками очень ловко из еловых шишек семена доставать.
После того как ёлка мужичка-кержачка согревала, в ней мало тепла осталось. О еловых дровах знающие люди так говорят: „В ёлке огня-пылу много, а жару нет. Горит весело, а блинов не испечёшь!» Это потому, что давным-давно, в зимнюю пору, ёлка отдала своё тепло за доброту человеческую.
Как у филина уши выросли. 5
Как змея голос потеряла. 10
Как Анютка медведя убаюкала. 16
Как клесты с морозом воевали. 22