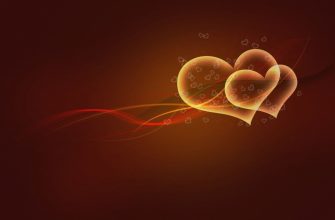Сказки народов Ханты-Манси
Как-то вечером сказал старик своей старухе:
— Насуши сухарей. Давно я не охотился. Завтра с утра в лес пойду.
— Незачем ходить. Стар ты стал.
Хочешь, чтобы менквы, лесные духи там тебя съели?!
— Менквы не менквы – всё равно пойду. – И лёг спать.
Утром встал, спрашивает:
— Пойду! – говорит старик.
— Не пойдёшь! – упрямится старуха.
Так полдня и проспорили.
Солнце уже стало на другую половину неба клониться, когда старик из дома вышел. До его лесной избушки, где он смолоду, охотясь, бывало, неделями жил, далеко идти. Солнце село, смеркается. Вскоре совсем стемнело, а он до своей избушки ещё не добрался. Шагает, думает:
«А ведь верно старуха говорила- съедят меня менквы! Лучше бы не ходил».
Такой страх его берёт, что ноги трясутся. Однако идёт. В избушке, думает, не так страшно. Теперь уже близко.
Ох, страх какой! Сидит у очага два огромных менква с голыми волосатыми ногами. Один сдирает шкуру с красного зверя, другой – с чёрного. Шарахнулся старик от окошка, наступил на берёзовой сук, Кряк! – сук сломался.
— Ой! – вскрикнул один менкв грубым голосом.
— Ай! – подскочил второй.
А старик опять к окошку. Смотрит, слушает.
-Чего это мы так боимся? – спрашивает первый менкв, а сам весь дрожит.
— Не знаю, чего боимся. Разве есть на земле кто-нибудь больше нас? Разве есть кто-нибудь сильнее нас? – И тоже весь дрожит.
— А что это было? – спрашивает первый менкв.
-Видно…- отвечает второй, это берёзовый сук треснул.
— Ох, не говори, у меня сердце от страха лопнет! Ну-ка скажи ещё раз, что это было?
— Сук берёзовый треснул!
— С чего бы ему треснуть?!
Старик за окошком думает: «Неизвестно, кто кого больше боится. А кто сейчас больше испугался-посмотрим!»
Отодрал он кусок бересты, свернул трубкой, к носу приставил. Длинный-предлинный у него нос получился. Потом просунул старик голову в окошко и закричал низким голосом:
— А вот и Берестяной Нос в гости пришёл! У-гу-гу-у!
Вскочили менквы, кинулись к выходу. Дверь из избушки вышибли, бросились бежать. Только топот по ночному лесу раздаётся.
Старик двери назад приладил. В избушку вошёл, спать лёг.
Охотиться не охотился, а шкуру красного зверя- лисы и шкуру чёрного зверя- куницы домой принёс.
Отдал старухе, сказал:
— А ты говорила: не ходи! Эх ты!
Были у отца с матерью сынок и дочка. Однажды мать уплыла в русскую деревню за покупками. А отец поехал поехал на покос. Велели они детям в доме хозяйничать.
А брат с сестрой целый день в реке купались. Посинели от холода.
Прибежали к дому. Затопил мальчик печку во дворе. Сидят, греются.
А девочке не хочется от тёплой печки уходить, снова в холодную воду лезть. Вспомнила она, что в старину у ханты существовали различные запреты, и говорит:
— В нашем роду женщинам не разрешается рыбачить около дома.
Позвал мальчик соседских детей. Протащили они невод и наловили щук. Мальчик разделил улов поровну, свою долю домой принёс.
— Сестра, выпотроши рыбу. А я за водой сбегаю.
Ленивая девочка отвечает:
— В нашем роду женщинам нельзя щук чистить. Большой грех!
Поставил мальчик на печурку котёл с водой. Сам принялся рыбу чистить и на куски резать. Мелких щучек, потроха да хвосты в другом котле над костром варить подвесил. Чтобы собакам еда не позже, чем людям, готова была.
Наварил мальчик ухи. Тут и отец вернулся. Увидел он – еда готова, собаки сыты, похвалил детей:
— Хорошие хозяева мои сын и дочь!
Мальчик помалкивает. Подал ужин на летнем столике возле дома. Рыбу в берестяную миску выложил, а уху в две кружки налил.
Поглядел отец- дочка губы надула, ворошит прутом дымокур, к столу не идёт. Спрашивает сына:
— Что же ты про сестру забыл?
— В нашем роду женщинам щуку есть запрещено.
Ненецкие сказки
Белый медведь и бурый медведь
Однажды лесной бурый медведь пошёл на север, к морю. В это время морской белый медведь пошёл по льду на юг, к земле. У самого берега моря они встретились. У белого …
Два брата
У развилки реки чум стоял. Жила в том чуме женщина с двумя маленькими сыновьями. Однажды ушла женщина пропитание добывать и не вернулась. Что с ней сталось, неведомо. Может, медведь задрал, …
Два брата и великан
Жил мальчик
В царском городе жил мальчик, по имени Коленька. Утром если он поест, вечером есть нечего; вечером если поест, утром есть нечего. Жил он в домишке, похожем на баню. Одежда вся …
Как медведь хвост потерял
Жила когда-то лиса, а рядом в лесочке медведь жил. Часто они встречались, жили дружно, как родные братья. В те времена у медведя хвост пушистый да длинный был.
Однажды лиса говорит …
Как могучий орёл вернул ненцам солнце
Очень давно это было. Много лет тому назад солнце над ненецкой землей не скрывалось с неба. Озера и реки тогда, словно вода в котле, кипели, столько в них было рыбы. …
Как храбрый Вай море победил
Жил храбрый Вай на самом краю земли, в тундре, у моря. А море страшное было: большое, широкое, волны по нему ходили, под волнами морские звери жили.
Выйдут охотники на промысел, …
Лисица, птичка и ворон
На дереве в гнезде сидела птичка. В гнезде четыре птенчика было. Бежала мимо лиса, увидела птичку и говорит:
Олешек и мышка
Бежала куда-то мышка. Долго ли, коротко ли бежала, повстречала олешка. Мышка спросила:
— Друг олешек, куда и откуда идёшь?
При таких словах олешек поднял голову и говорит:
Пичужка
Пичужка-жених на вершине тонкой березки сидит. Мышка-невеста около дверей своего земляного чума разгуливает. Металлические украшения на косе у нее позванивают, голову мышки назад оттягивают.
— Полетел пичужка-жених в свой чум. …
Почему совы не видят солнечного света?
Жил старик-сова со своей старухой, и был у них один-единственный сын.
Пришло время сына женить. Сказал тогда старик-сова своей старухе:
— Надо женить нашего сына. Не знаешь ли ты для …
Три сына
Жила бедная женщина. Было у нее трое сыновей. Выросли сыновья. Стали сильными, крепкими, а мать состарилась. Вот сказала однажды мать своим сыновьям:
— Теперь пора вам самим счастье себе искать. …
Харючи
— После отца, после матери …
Ягодка голубика
Жила однажды девушка. Была она такая маленькая, что могла легко спрятаться за кочку, за карликовую березку. Потому прозвали ее Лынзермя.
Сидела как-то Лынзермя одна у себя в чуме и шила. …
Сказки ненцев и хантов
Ханты и манси — два близкородственных народа, живущие в Северо-Западной Сибири. Этнонимы «ханты» и «манси» образованы от самоназваний народов хантэ, кантах и маньси. В качестве официальных названий они были приняты после Великой Октябрьской социалистической революции, а в старой научной литературе и в документах царской администрации хантов называли остяками, а манси — вогулами. Эти названия использовались в течение нескольких веков и стали привычными не только для окружающего русского населения, но и для самих хантов и манси. Этнонимы «остяки» и «вогулы» нередко можно встретить и в современной зарубежной литературе.
Для обозначения хантов и манси как единого целого в научной литературе утвердился еще один термин — обские угры. Первая его часть указывает на основное место проживания, а вторая происходит от слова «Югра, Югория». Так называлась в русских летописях XI-XV вв. территория на Полярном Урале и в Западной Сибири, а также ее жители. Лингвисты ввели этот термин в генеалогическую классификацию, назвав языки хантов и манси угорскими (югорскими); в эту же группу входит родственный венгерский язык. Угорские языки наряду с прибалтийско-финскими, волжскими, пермскими и саамскими языками составляют финно-угорскую группу уральской языковой семьи (в нее кроме финно-угорских входят самодийские языки, на которых говорят ненцы, селькупы, энцы, нганасаны).
Происхождение и этническая история. Для понимания характера и особенностей культуры в целом, в том числе и устного народного творчества, хантов и манси необходимо иметь представление об их этногенезе. Проблема эта очень сложна, и исследователи по целому ряду вопросов не могут прийти к единому мнению. Исходя из того, что хантыйский и мансийский языки относятся к финно-угорской группе уральской языковой семьи, предполагается, что некогда существовала и общность людей, говорившая на этом праязыке.
Вопрос о том, где жила эта общность, занимает умы исследователей с середины прошлого века. Тогда была выдвинута гипотеза азиатского происхождения финно-угорских и самодийских языков. Позднее получила широкое распространение теория европейской прародины, выработанная в основном финскими и венгерскими учеными. Одни из них предполагали, что прародина могла находиться в Северо-Восточной Европе, не очень далеко от Урала, по мнению других, эта территория простиралась от Балтийского моря до Урала.
Известный советский археолог и этнограф В. Н. Чернецов предложил в 1940-х годах гипотезу, согласно которой история уральцев возводится к западносибирскому неолиту. Эту же концепцию по лингвистическим и палеонтологическим данным разрабатывает в последние годы венгерский академик П. Хайду [97, с. 138-190], которого поддерживают и другие венгерские ученые. Основываясь на названиях деревьев и спорово-пыльцевом анализе, они полагают, что в VI-IV тысячелетиях до н э. уральцы жили в Западной Сибири. В дальнейшем прауральский язык разделился на несколько обособленных групп. Первым этапом было отделение предков самодийцев от финно-угров на рубеже V и IV тысячелетий до н. э. Затем наступила финно-угорская эпоха, когда относительное единство сохраняли только предки современных финно-угорских народов. Процесс деления продолжался, и в начале II тысячелетия до н. э. завершилось формирование угорского праязыка — предка венгерского, хантыйского и мансийского.
В этот период происходят климатические изменения, вследствие которых граница степи сдвигается на север. Происходит, вероятно, и географическая передислокация угорских племен: часть из них сдвигается несколько на юг, где усиливаются их связи с южными соседями — праиранцами, и переходит, возможно под влиянием последних, от присваивающего к производящему хозяйству — животноводству и земледелию.
Вероятно, угры уже на очень раннем этапе разделились на две ветви: южную, в которой можно усматривать предков венгров, и северную — предков современных хантов и манси. В исследованиях последнего времени эта дифференциация объясняется причинами экономического характера, связанными с изменениями климата. Из-за нового потепления на рубеже II и I тысячелетий до н. э. граница тайги и лесостепи сдвинулась к северу примерно на 300 км. Область расселения угров стала непригодной для комплексного животноводческо-земледельческого хозяйства. Одна часть угорского населения (предки венгров) перешла к кочевому животноводству, а другая (предки хантов и манси) переселилась ниже по Оби, в оставшиеся пригодными для земледелия районы, и сохранила комплексное хозяйство. Несколькими столетиями позже, начиная с VII в. до и. э., наступило похолодание, и тайга вновь достигла своих прежних южных границ. В этот период началось движение венгров на юг, а во время великого переселения народов (V в. н. э.) они были увлечены на запад. Предки же обских угров с наступлением похолодания оказались в таежной зоне. В результате их расселения на запад от Уральских гор и в зону тундры они смешались с местным охотничье-рыболовецким населением, отказались от земледелия и животноводства и возвратились к присваивающему хозяйству. Они ассимилировали местное население, языковая принадлежность которого не установлена.
Несмотря на неясность и противоречивость в решении многих вопросов происхождения хантов и манси, исследователи единодушны в мнении о двухкомпонентности их культуры, вобравшей в себя традиции местных сибирских племен и пришлых с юга угров.
Важным фактором формирования и развития предков обских угров были контакты с другими этносами. Лингвисты говорят о возможности древних связей уральской языковой семьи с индоевропейской и тюркской, выявляют параллели между уральскими и юкагирскими, чукотско-камчатскими, эскимосско-алеутскими языками. Для угорской эпохи обнаружены языковые следы угорско-праиранских культурно-исторических связей; исследуется вопрос об угорско-тюркских и угорско-пермских языковых параллелях.
Этническая история хантов и манси в XVI-XIX вв. прослеживается уже по письменным источникам. В XVI в., по данным русских летописей и документов, остяки (ханты) жили по средней и нижней Оби и на притоках Казыме, Куновате, Сыне, Северной Босове с Люпином, возможно, на верхней Елозьте и на Тазу, по Иртышу и его притоку Демьяне. Они упоминаются также на Конде, в верховьях и среднем течении Туры, на Чусовой и ее притоках Сылве и Ирени, на Нице, в
Сказки народов ханты и манси
специалист в области арт-терапии
Детские сказки у народа манси в прошлом были очень популярны. Взрослые увлеченно рассказывали их детям. Дети любили их слушать, запоминали легко и быстро, а затем пересказывали друг другу в зимние холодные вечера.
Мансийские сказки для детей глубоко нравственны, познавательны.
У манси не было письменности до 30-х годов нашего столетия, но это не значит, что у них не было творчества. Оно бытовало в устной форме. Среди народа выделялись мудрые и талантливые певцы, сказители. Эти прославленные певцы и сказители хранили легенды, предания, Мифы, сказки, загадки для потомков.
Сказки у манси имеют сезонный характер исполнения. Их можно было рассказывать только зимой, с середины ноября до середины марта. В это время свирепствовали сильные морозы, дети, женщины и старики находились дома; дни были короткие, ночи длинные.
В зимние вечера было принято собираться вместе в каком-либо доме. Женщины брали с собой рукоделие. На этих сборах были девочки и мальчики. Они не мешали взрослым, не плакали, не прыгали, а, прижавшись к матерям, заворожено слушали сказки. Обычно на таких вечерних посиделках сначала рассказывали детские сказки, затем сказки для взрослых.
Сказки для детей рассказывали матери или бабушки. Язык этих сказок четок, понятен детям, сказки, как правило, короткие и простые. Окружающий мир детских сказок правдив, дети должны были познавать суровую жизнь такой, как она есть. В сказках народа манси главным героями выступают животные и растения. В сказках все звери, явления природы, окружающие предметы и вещества говорят как люди, они умны.
Детские сказки поучительны: не будь ленив; учись жить на примере людей и зверей, окружающей природы — это твои враги, если ты глуп, если же ты умен и правдив,— они твои друзья. Так учат жить маленького человека взрослые через детские сказки .
Старик понял, что духи его испугались и думает: «Ну-ка, я их сейчас из избушки выгоню!» Оторвал кусок коры от дерева, в трубочку свернул и к носу приставил. Длинный-предлинный нос получился. Просунул старик голову в окошко и как закричит:
— Ого-го! К вам в гости Длинный Нос пришёл!
Перепугались лесные чудища до смерти и выбежали прочь из избушки.
Старик в избе переночевал, а утром принёс домой шкуры зверей, которые лесные духи оставили.
Отчего у зайца длинные уши?
Когда появились в лесу звери, самым главным у них был лось. Однажды на лесной полянке разговаривал лось с женой. Мимо бежал заяц. Услышал он, что лось с лосихой разговаривают, подкрался поближе, спрятался за пенёк, слушает.
— Есть у меня рога, которые я должен раздать зверям, — говорит лось. — Но зверей много, а рогов мало. Кому же дать?
Слушает заяц, думает: «Хорошо бы и мне рога получить. Чем я хуже других?»
— Кому вот эти рога дать? — спрашивает лось жену.
Только хотел заяц рот открыть, а лосиха отвечает:
— Эти оленю дай. Будет защищаться ими от врагов.
— Хорошо, — говорит лось. — А вот эти, большие, кому?
Тут заяц не вытерпел, высунулся из-за пенька, кричит:
— Эти мне дай, мне, зайцу!
— Что ты, братец? — удивился лось. — Куда тебе такие рога?
— Как — куда? — говорит заяц. — Мне рога очень нужны. Я всех врагов буду в страхе держать. Все меня бояться будут!
— Ну что ж, бери! — сказал лось и дал зайцу рога.
Обрадовался заяц, запрыгал, заплясал. Вдруг с кедра большая шишка свалилась ему на голову. Подскочил заяц — и бежать! Да не тут-то было! Запутался рогами в кустах, выпутаться не может, визжит со страху.
А лось с женой хохочут.
— Нет, брат, — говорит лось. — Трусливое у тебя сердце, а трусу и самые большие рога не помогут. Получай-ка ты длинные уши. Пускай все знают, что ты подслушивать любишь.
Так и остался заяц без рогов, а уши у него выросли длинные-предлинные.
Жил-был зайчик. На озерном берегу в осоке постоянно прыгал. Однажды губу себе осокой разрезал. Пошел к огню пожаловаться:
— Огонь, сожги осоку на озерном берегу!
— Какое зло сделала тебе осока?-спросил огонь.
— Губу мне разрезала,-ответил заяц.
— Уж такое ненасытное брюхо у тебя,-сказал огонь. Пошел заяц к воде и говорит:
— Вода, прибудь, затуши огонь!
— Какое тебе зло сделал огонь?
— Огонь осоку на озерном берегу не зажигает!
— Какое зло тебе сделала осока?
— Губу мне разрезала.
— Уж такое ненасытное брюхо у тебя! Пошел зайчик к двум мальчикам со стрелами и луками, говорит им:
— Дети, в воду стреляйте!
— Какое тебе зло вода сделала?
— Вода не прибывает, огонь не тушит!
— Какое тебе зло сделал огонь?
— Огонь осоку на озерном берегу не зажигает!
— Какое тебе зло сделала осока?
— Губу мне разрезала?
— Уж такое ненасытное брюхо у тебя! Пошел зайчик к мышке и говорит:
Пожалела мышка зайчика и пошла тетиву у луков перегрызать. Но не успела. Схватили мальчики луки, натянули тетиву и пустили стрелы в воду.
Как землю выловили
Две гагары вниз слетели. Одна большая, другая малая гагарка. Со дна моря землю достать хотели.
Большая гагара в воду нырнула. Ныряла, ныряла — долго ныряла, коротко ныряла,— на поверхность выплыла. Ничего не принесла, дна не достала.
Тогда малая гагарка нырнула. Ныряла, ныряла, наконец наверх поднялась, тоже ничего не достала, до земли не дошла.
Большой гагаре гагарка говорит:
— Давай вместе нырнем!
Нырнули обе. Плыли, плыли, дыхание сдавило, назад вернулись. Выплыли, подышали немного и снова нырнули. Глубоко спустились, до дна все же не дошли, дыхание сперло. Снова вернулись. Выплыли, отдышались и в третий раз нырнули.
Долго спускались, наконец все-таки до дна дошли. Кусочек земли подхватили, в обратный путь пустились.
В этот раз уж очень долго гагары под водой пробыли. Дыхание у них так сперло, что, когда наверх выплыли, у большой гагары из груди воздух вырвался и кровь потекла. Оттого теперь у гагары грудь красная. У малой гагарки из затылка кровь потекла, и теперь у всех малых гагар затылок красный.
Землю на воду положили. Начала земля расти. Скоро с подошву величиной стала, а потом такой выросла, что человеку на ней лечь можно. И все больше и больше растет.
Есть у манси на Северном Урале любимое озеро — Ватка-Тур. Недалеко от него жил охотник Захар со своей семьёй. Был он трудолюбив, целыми днями ходил по тайге, охотился. Знал повадки каждого зверя, умел выслеживать хитрую лису, находить зимой медвежьи берлоги, ловить сохатого. Только оленей никогда не ловил — жалел их Захар.
Однажды летом пошёл Захар на озеро проверить поставленные им сети. Тихо на озере. Только и слышно, как рыба плеснёт или как утка вспорхнёт… Вдруг видит: недалеко от него стоит красавец олень. Засмотрелся на него охотник — весло из рук выпало, а олень встрепенулся, замер на миг, потом гордо поднял голову с сереньким пятнышком на лбу и убежал прочь.
Прошло лето. Пришла и ушла осень. Наступила зима. А зима на Урале суровая да снежная. Трудно Захару с семьёй жить стало. Юрта совсем худая, и на охоте удачи нет.
Пошёл Захар в лес. День идёт, другой, из сил выбивается, а на след зверя набрести не может. Вышел к болоту и видит: на краю болота стадо оленей пасётся и среди них тот, с сереньким пятнышком на лбу.
Стал Захар потихоньку подползать к оленям. Вот уже совсем близко подполз. Быть бы ему с добычей, да дрогнуло сердце у охотника, жалко стало оленя убивать. Олени почуяли, что человек близко, и умчались.
Только хотел Захар повернуть обратно, вдруг видит: прямо к нему, опустив голову, идёт большой и сильный олень. Испугался Захар, а олень остановился около него и сказал человечьим голосом:
— Здравствуй, Захар! Давно я тебя знаю. Вижу, как ты трудишься, бродишь по тайге, а удачи тебе нет.
— Спасибо, гордый олень, что добрым словом меня согрел.
— Будь завтра снова на этом месте, — проговорил олень и, высоко подняв голову, убежал.
На другой день, только показался первый луч солнца, Захар пошёл на болото. Красавец олень уже ждал его.
— Я буду твоим другом и помощником, — сказал он. — Садись на меня!
Быстро мчался олень по тайге. Сколько было радости и удивления, когда Захар вернулся домой!
Легче стало жить Захару: освободил его олень от самых трудных работ. Все привыкли к доброму оленю. И решил охотник отблагодарить его за доброту. Вечерами сидели они всей семьёй и вытачивали, отделывали каждую веточку — делали оленю такие рога, каких ни у кого нет. И вот рога готовы — крепкие, ветвистые, красивые!
Весной, когда начал таять снег, запряг Захар оленя и посадил всю семью на нарты.
— Поехали! — крикнул Захар.
И они помчались по бескрайней тайге.
Вот и озеро Ватка-Тур. Захар освободил оленя из упряжки и вывел к тому месту, где впервые увидел его. Старший сын Захара принёс приготовленные для оленя рога.
— Это тебе, дорогой олень! — сказал Захар.
Олень гордо качнул головой с новыми рогами. Прошёлся по берегу озера, копнул острым рогом землю.
— Спасибо тебе, олень, за помощь, — сказал Захар. — Иди на свободу.
— И тебе спасибо, человек! С такими рогами мне и волк не страшен! — сказал олень и, встряхнув на прощанье красивыми рогами, скрылся в лесу.
С той давней поры все олени носят рога и дружат с человеком.
Как собака себе товарища искала
Давно это было, поговаривают старые манси. Собака в лесу жила одна. Жить одной ей стало скучно, отправилась собака искать себе товарища. Собака искала такого товарища, который никогда никого не боялся. Она думала: «Наверное, волк самый сильный, он никого не боится». Собака отправилась искать волка. Нашла волка и сказала ему:
— Волк, будем жить вместе.
Стали они вместе жить. Однажды собака услышала шелест трав и залаяла.
Это как же? – думает собака. – Наверное, медведь самый сильный, если волк его боится». И собака отправилась
искать медведя. Долго ли, коротко ли искала, нашла медведя и говорит ему:
— Медведь, будем вместе жить.
И стали они поживать вместе. Однажды собака услышала шелест листьев и залаяла. Медведь испугался и говорит:
— Не лай, собака! Человек услышит нас, придет с ружьем и убьет.
-Человек, давай вместе жить будем.
Человек согласился и стали они жить вместе. Однажды ночью собака стала лаять. Человек проснулся и говорит:
— Так, так! Погромче лай, бросайся, пугай!
Тогда собака поверила, что человек – Самый сильный на земле. Он ничего не боится. С тех пор и до сегодняшнего дня собака живет с человеком. Собака – хороший друг человека.
Давно это было, никто из старых манси не помнит. Возле самых гор жил-был лосенок. День растет, ночь растет. Превратился в могучего, прекрасного зверя. Любо смотреть на него: могучие ветвистые рога ветви деревьев задевают. Бежит он по лесу, коренья и сучья трещат под его могучими копытами – такой он сильный стал.
Долго ли, коротко ли жил лось, стало ему одиноко и грустно одному. Подумал он: «Пойду-ка я искать себе друга». Долго ли, коротко ли думал, отправился в путь. Много лесов обошел он и вот однажды встретил росомаху. Спросил ее:
— Росомаха, скажи, чем ты питаешься? Какую пищу ты любишь?
Росомаха ему ответила:
— Я ем мясо лесных зверей.
— Чем ты, заяц, питаешься?
— Я щиплю траву и грызу прутья и кору деревьев.
Тут лось очень обрадовался и взял себе в друзья зайца. Теперь они одной пищей питаются и никогда не ссорятся.
Традиционные занятия: рыболовство и охота (пушная охота имела товарное значение), кроме того, оленеводство на севере и скотоводство на юге.
Основная пища: рыба, которая перерабатывается практически полностью (что не идет в пищу, используется для приготовления клея, жира, утвари) и мясо лося, оленя.
Одежду на севере шили из оленьих шкур, на юге из сборного меха в сочетании с тканями. Ткани изготавливались из крапивы, конопли, использовалась и рыбная кожа. Распространены различные украшения из бисера. И одежда и утварь богато орнаментированы.
Несмотря на обращение в 17-18 вв. в православие, ханты сохранили традиционные верования (в духов, трехчастное строение Вселенной, в множественность душ; почитание животных) и обряды. Одним из самых ярких проявлений культа медведя является медвежий праздник, сопровождающийся исполнением особых сказок, мифов, медвежьих песен, танцев, интермедий с участниками в масках. Богат фольклор хантов: сказки, мифы, героические сказания, ритуальные и лирические песни.
Жила мышка. Настала весна, задумала мышка поехать осетров и нельм ловить. Вместо лодки ореховую скорлупку взяла, вместо весла-лопаточку для шпаклевки лодки серой.
— Ореховая скорлупка-лодка моя: тел, тел, тел, лопаточка-весёлко мое: пол, пол, пол. У одной деревни ребята кричат с берега:
— Эй, мышка-норушка, подъезжай сладости поесть!
— Нет, со щукой не ем.
И опять едет дальше, напевая:
— Скорлупка-лодка моя: тел, тел, тел, лопатка-весёлко мое: пол, пол, пол.
И опять у одной деревни ребята с берега кричат:
— Эй, мышка-норушка, приставай сладости поесть!
— Нет, с утиным мясом не стану есть.
И опять едет дальше, напевая:
— Скорлупка-лодка моя: тел, тел, тел, лопатка-весёлке мое: пол, пол, пол.
Долго или коротко ехала, снова в одной деревне ребята кричат:
— Эй, мышка-норушка, приставай сладости с икрой поесть.
— Ням, ням, ням, ням, еду отцов моих-с осетровой икрой буду, буду есть.
К берегу пристала, наставили ей еды с осетровой икрой.
И принялась мышка есть.
Ела, ела, ела, ела, даже живот круглым стал.
Тут закричали дети с улицы:
— Мышка, мышка-норушка, весло твое и лодку твою водой смыло.
Мышка вскочила, побежала на берег, споткнулась, упала в собачью яму, и лопнул ее живот.
Девочки прибежали быстро и зашили мышке-норушке дратвой и жилами живот. Поставили ее на ноги.
Мышка-норушка, шатаясь, пошла к своей скорлупке-лодчонке с лопаточкой-веслом, села и, грустная, поехала дальше, даже про песни забыла. И только лодочка ее поет: тел, тел, тел, и только весло ее поет: пол, пол, пол.
Осенью один охотник ушёл на охоту. Ушёл, да так и не вернулся в чум. Его жена подумала, что он погиб где-нибудь в лесу. Ходила искать, но не нашла. Поплакала и вернулась к своим детям.
Прошла зима. На земле появилось много проталин. Стало тепло. В одно солнечное утро дети играли возле чума. Играли-играли, да как закричат:
— Мама! К нам отец из лесу идёт.
— Какой там отец? — сказала она из чума. — Ваш отец осенью потерялся. Откуда он может прийти?
— Нет, мама, это наш отец идёт!
Дети говорили правду.
Мать вышла из чума и встретила мужа.
— Где же ты был целую зиму? — спросила она.
Муж сел и начал рассказывать всё, что с ним было.
— Осенью, когда я ушёл на охоту, в лесу я встретил медведя. Стал его гонять. Пищи со мной было мало, я обессилел и не мог догнать зверя. Но я видел, что медведь ел какую-то траву. Я нашёл эту траву и думаю: медведь ест и сытый бывает, почему бы мне не поесть её? Я поел и стал сытым. Погнался опять за медведем. Наткнулся на берлогу. Посмотрел: берлога пустая, зверь приготовил её, но не стал в ней зимовать. Я хотел идти дальше, но не смог. От медвежьей травы меня бросило в сон. Голова падает. Куда пойдёшь? Я снял лыжи, поставил к дереву, повесил на сук ружьё, залез в берлогу, заткнул мхом вход, лёг на медвежью постель и уснул. Уснул осенью, а проснулся только весной. Вот какая сытная да сонная эта медвежья трава…
Какую траву ел охотник, он никому не показал. Но старики говорят, что в тайге такая сонная трава растёт и медведи знают её.
Собрались три охотника на охоту. Долго ли, коротко шли, до ночлега дошли. Стали искать спички, а спичек ни у кого не оказалось.
Один из них говорит:
— Ну, сходи, принеси оттуда огня. Другой пошел к тому месту, где огонь был виден. Пришел туда; оказывается, какой-то старик огонь развел.
— Ну, дедушка, здравствуй!
— С какой нуждой-бедой хожу? Наши жены не позаботились об огне для нас, я пришел огня просить.
Постоял-постоял охотник и ушел к своим товарищам. Пришел туда и говорит:
— Дед своего огня бесплатно и дешево не дает. Говорит другому охотнику:
— Пойди ты, может-тебе даст.
Вот человек этот пошел, пришел туда. Старик стоит.
— Здравствуй, здравствуй, внучек!
-Дедушка, я огня попросить пришел. Дашь или нет огня?
— Мой огонь дорогой и платный, так не дам. Расскажешь семь веселых сказок дам.
— Я не умею рассказывать. Да где мне взять семь веселых сказок?!
Пошел к ночевью. Говорит двум своим товарищам:
— А ну, я пойду! Пришел туда, старик сидит и подтапливает.
— Дедушка, наши жены не позаботились об огне для нас. Дай нам огня.
За все лето я набил полный мешок комаров и полный мешок мошкары, потом набил полный мешок оводов. И стал я их продавать. Один комар-лошадь и корова, одна мошка-лошадь и корова, один овод-лошадь и корова.
Резал-резал, стал обдирать шкуру с последней коровы, а она вскочила и побежала.
— Дедушка. Смотри, небо сейчас свалится.
Тут старик превратился в кучу золота.
Привел младший охотник туда своих товарищей, наполнили свои нарты золотом и уехали.
Давно это было. Жили брат с сестрой. Отца-матери не помнили, одни в тайге выросли.
Сестра дома пищу готовила, а брат зверя промышлял. Подошла охотничья пора — брат в тайгу собрался.
Брат сестре наказывал:
— Маченкат, если гости будут, ты хорошо встречай. Бурундучок придёт — накорми, сорока прилетит — тоже накорми.
Брат ушёл. Сестра из меха шубу шить начала.
Работала, работала — ни сорока не прилетела, ни бурундучок не пришёл — медведица пожаловала! В дом вошла — поклонилась. Маченкат испугалась, к печке подскочила, золы схватила — зверю в глаза бросила.
Медведица лапой прикрылась, заревела, по дорожке, по какой брат ушёл, побежала.
Время пришло — снег таять начал. Сестра брата ждёт. Сегодня ждёт и завтра ждёт. На край высохшего болота вышла. Видит: вихорь-снег вдали поднимается, будто брат идёт навстречу. Думает: «Сердится, видно, на меня брат!» Смотрит, а вихорь пропал, брата не видно. Пождала, пождала, повернула лыжи назад, пришла домой. Вечер прошёл, ночь прошла, а брата и утром нет.
Живёт Маченкат дальше. Снег совсем сходить начал. Снова она лыжи надевает, отправляется брата
встречать. На болото вышла, опять то же видит: брат навстречу идёт, снег-вихорь вверх поднимается.
Маченкат подумала: «Пусть сердится брат — пойду встречать!» Доходит до того места, где вихорь поднимался, а брата здесь нет, как не бывало. Лыжня, где он шёл, заровнялась, а по ней медведь прошёл. Сестра по медвежьему следу пошла. Дошла до края тайги — стоит нарта брата, а его нет нигде. Брат, видно, домой шёл, медведь его встретил. Сестра подумала: где искать брата?
. Вечером себе котомку сделала. Всю ночь не спала. Утром, только светло стало, на улицу вышла. Лыжу взяла, бросила к верховью реки. Лыжа катиться не стала, перевернулась.
«Туда дороги мне нет»,— подумала сестра. Лыжу на низ бросила, к устью. Туда лыжа покатилась. Вот куда идти надо.
Маченкат на лыжи, выдренным мехом подбитые, встала, по тому пути, куда лыжа покатилась, пошла.
Долго ли, коротко ли шла — вечерняя пора подходит, дрова заготовлять время настало. Переночевать надо. Маченкат пней гнилых натаскала. Для растопки пень берёзовый сломить надо. Сломила пень — из-под него лягушка выскочила.
— Какая беда! — лягушка закричала.— Ты мою избу сломала. Хочешь меня заморозить?
Девушка ей говорит:
— Сломала — поправлю, я ведь не знала, что тут твой дом.
— Давай вместе ночевать,— говорит лягушка,— сестрами будем. Я сейчас костёр разведу, котелок вскипячу, ужин сделаю.
Занялась лягушка делом: гнилушки сыплет в котёл. Девушка говорит ей:
— Не будем гнилушки есть. Мясо сварим. У меня запас есть.
Сварили ужин, поели. Легли спать. Утром лягушка говорит:— Давай поменяемся на время одеждой и лыжами. Девушка лягушкины лыжи-голицы надела, шубу дырявую надела, а лягушка её лыжи, мехом подбитые, и шубу взяла.
Пошла девушка в гору, а лыжи назад катятся. Никогда она не ходила на лыжах-голицах — падает. Насилу догнала лягушку. Лягушка радуется:
— Ой-ёй-ёй! Какие лыжи у тебя! Под гору сами катятся, в гору сами идут!
— Ох, какие худые у тебя лыжи! На гору не могла вылезти на них. За снег хваталась — все руки поцарапала.
Тут они снова поменялись. Лягушка свою дырявую шубу надела, а девушка — соболиную шубку. Лягушка говорит:
— Ты, девушка, для подружки ничего не жалеешь. За это я, срок придёт, отплачу тебе.
Сварили они обед. Поели. Пошли в свой путь.
Долго ли, коротко ли шли, слышат, где-то лес рубят. Они ближе подходят. Видят, люди город большой строят. Лягушка сказала девушке:
— Сейчас нас женихи встретят. С золотыми подвязками мой жених будет, с ременными подвязками — твой жених.
Девушка лягушке отвечает:
— Что ты, сестричка, говоришь? В незнакомый город пришли, какие здесь женихи нам с тобой?
К берегу подходят, а два парня — навстречу к ним: одного звать Кана, другого — Колькет.
Кана человек умелый, знает всё и всё может сделать.
Девушка смотрит на Кана. На нём золотые подвязки. Кана к лягушке подошёл, поклонился ей, на плечо руку положил, и тут она в девицу-красавицу превратилась.
Колькет подошёл к Маченкат, поклонился ей. Глаза голубые — улыбаются, кудри вьются кольцами.
Колькет девушку Маченкат за руки стал брать:
Она руку отдёрнула:
— Что ты! Никто меня сроду за руки не водил. Сама я сюда пришла, и на гору сама тоже пойду.
Колькет всё-таки помог на гору взойти. Им люди навстречу вышли, много народу. Утром стали свадьбу готовить, столы поставили. Весь народ на праздник собрали. Пир был большой.
Долго ли, коротко ли жили — снег растаял. С реки лёд унесло.
Маченкат говорит Колькету:
— Надо съездить на родную сторону, брата родного поискать.
Собрались Колькет с женой и Кана со своей женой. Сделали лодку крытую. На родину Маченкат поехали по реке. Кана говорит:
— Всё равно найдём его. Пока своего не добьёмся — искать будем.
Много ли, мало ли ехали, вдруг увидели они — несёт по реке щепки свежие. Подумали: «Кто щепки нарубил?» Ещё немного проехали, увидали — на вершине кедра сидят маленькие медвежата, делят кедровые шишки.
Слышат — спорят медвежата. Большой говорит: «Я свои шишки тёте отдам», а маленький говорит: «А я дяде отдам». Потом с кедра скатились на землю, к берегу подбежали, об землю ударились — ребятишками стали. Закричали:
— Дядя! Тётя! Нас в лодку посадите!
— Однако, нашли мы твоего брата, Маченкат.
Посадили ребят в лодку, поехали дальше. Вот старший говорит:
— Тётя, мама сильно рассердилась, когда услыхала, что ты едешь. Отец не сердится. Он дома вас будет встречать, а мама медведицей обернулась. Ты только не бойся, подходи. Что у тебя есть, с тем и кланяйся ей.
Увидели они дом на берегу — брат Маченкат у входа их встретил. Обрадовался, всех в гости позвал. Вскоре в избу вошла медведица.
Маченкат вынула шёлку большой кусок, медведице поклонилась: «Прости меня»,— сказала и шёлком накрыла её.
Медведица на улицу вышла. Стряхнула с себя шкуру — женщиной стала. В избу вошла, словами не рассказать — какая красавица. От волос и бровей будто серебро сыплется. Тут они помирились, поцеловались. Смотрит Маченкат: у жены брата одна щека обожжена. Догадалась Маченкат, говорит ей:
— Разве я бросила бы золу в тебя, если бы знала? Брат наказывал : бурундучок придёт — накорми, сорока прилетит — накорми. А ты не бурундучком, не сорокой — медведицей пришла.
Брат сказал ей тут:
— Есть в тайге закон: кто другом в гости придёт, всегда хорошо встречай! На дружбе — мир держится.
Тут начался у них пир. Сухари из мяса были, оленина была, сало лосиное было. Долго пировали.
Береста, брусника и уголек
В одном чуме жили трое — береста, ягода брусника и горящий уголь. Они занимались охотой, но для этого у каждого из них было свое время. Уголь охотился только в ясные, ведренные дни; береста выходила из чума лишь в сырую, ненастную пору; брусника не боялась ни дождливых, ни солнечных дней.
Жили-жили они вместе и заспорили между собой. Заспорили о том, сколько кто из них проживет.
— Я буду жить долго-долго, — сказал уголь. — Я никогда не погасну. Я огонь, и меня все боятся.
— Нет, уголь, ты скоро умрешь, — сказала береста. — Я крепче тебя и брусники. Я переживу вас обоих.
— Нет, береста, ты меня не переживешь, — сказала, брусника. — Я никогда не умру. Я не боюсь того, чего боитесь вы с углем.
Поспорили и притихли. Настал солнечный день. Уголь и брусника ушли на охоту, береста осталась в чуме, чтобы дождаться дождливой поры.
Уголь ушел далеко в лес. Вдруг на небе собралась черная туча.
Уголь испугался и побежал в чум. Но из тучи хлынул дождь и залил уголь.
Брусника вернулась с охоты и говорит бересте:
— Уголь-то пропал. Тоже хвалился!

— Дождя я не боюсь, пойду на охоту.
— И я не боюсь, — сказала брусника. — Я тоже пойду с тобой.
Пошли. Ушли далеко в лес. Дождь начал стихать. Брусника посмотрела кругом и говорит бересте:
Береста испугалась, побежала в чум.
Вдруг появилось солнце, стало жарко-жарко. Береста свернулась и умерла.
— Хвастунья! — сказала брусника, вернулась в чум и стала жить одна.
Был жаркий день. Брусника пошла на охоту. Вдруг появилась в небе туча. Брусника посмотрела на тучу и сама себе говорит:
— Что мне туча? Ни дождя, ни вёдра я не боюсь. Пусть льет дождь.
Из тучи повалил крупный град и подавил бруснику.
Уплыла мать на обласке в русскую деревню за покупками. А отец поехал траву глядеть – не пора ли покосничать. Велели детям домовничать. Брат с сестрой целый день в Оби купались. К вечеру посинели от купанья, зуб на зуб не попадает.
Затопил мальчик уличную печку возле дома.
— Пойдём, проневодим напротив избы,- зовёт брат сестру.
– Свежей рыбы на ужин добудем. А то чем родителей встретим?
Девочке неохота от печки уходить. Она вспомнила старую сказку и выдумала отговорку:
-В нашем роду женщинам не позволяется у домашнего берега рыбачить!
Позвал мальчик соседских детей. Совсем немного протащили невод-бредень и добыли щук.
Разделил маленький рыбак улов поровну всем. Свою долю домой несет.
-Сестрица, выпотроши рыбу. Я по воду сбегаю. У ленивой девочки ответ готов:
-Родовой запрет, братец! Наша мать говорила, а ей дома сказывали: в её роду женщины к щуке не касаются.
Поставил мальчик на печурку котёл с водой. Сам рыбу принялся чистить и на куски резать.
Мелких щучек – щуругай, потроха да рыбьи хвосты в собачьем котелке над костром варить подвесил, чтобы лайкам еда готова была не позже, чем людям. Такой у северян обычай!
Наварил мальчик щучьей ухи полон котёл! Тут и отец вернулся. Увидал он – собаки сыты, похвалил детей:
-Хорошие хозяева – мои сын и дочь!
Мальчик помалкивает. Собрал ужин на летнем столике. Рыбу в чуман выложил, а уху в двух кружках подал. Поглядел отец, дочка губы надула, ворошит в дымокуре прутом и не встает.
-Что же ты про сестру забыл? – спрашивает отец.
-Сестрица сказала, ей нельзя щуку ловить и чистить. А уж кушать щуку, пожалуй, вовсе грех?