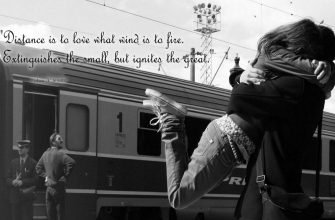Голоса Сибири
Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль – это когда наоборот.
Наталья Елизарова, Ирина Елизарова [ 1]
СКАЗКИ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В процессе формирования личности ребёнка художественной литературе отведено одно из приоритетных мест. Из многообразия литературных жанров сказка является мощнейшим средством эстетического развития. Именно поэтому она так актуальна и активно используется воспитателями и преподавателями начальной школы в работе с детьми.
Говоря о роли мировых и отечественных сказок в педагогике, нельзя не затронуть вопрос о воспитательном значении сказочных произведений местных авторов, которые также несут огромную эстетическую нагрузку. Ребёнка с самого детства необходимо приобщать через печатное и устное слово к культуре родного края. Освоив в детстве литературное краеведение, ребята лучше поймут отечественную и мировую литературу.
Авторов, пишущих для детей, среди современных писателей Омского Прииртышья немного, но это известные в регионе имена; их произведения включены в школьную программу Омска и Омской области.
Творчество детской поэтессы Нины Саранчи ценно как с художественной, так и с педагогической точки зрения. Интересное содержание в органическом единстве с безупречной отточенной формой – его отличительная черта. Ценность поэзии Н. Саранчи заключается в том, что один из её главных действующих лиц – ребёнок. Лейтмотивом стихов поэтессы являются поступки детей, которых не понимают взрослые. Так, в стихотворении «Опять обидели» родители строго наказывают своего маленького сына за испачканную одежду – для них он озорник и неряха, а мальчик всего лишь, подражая гиппопотаму, пытается копировать его повадки. Н. Саранча позволяет читателю увидеть ребёнка и глазами взрослых, и детским взором: «Опять меня обидели, сурово наказали: в обед лишили сладкого и подзатыльник дали. А я-то был хорошим и не шалил ни грамма. Лежал я в луже по уши – играл в гиппопотама…» [4].
Аналогичная ситуация встречается и в стихотворении «Творчество»; в нём читатель одновременно может познакомиться и с бездельником, и с творческой личностью, отважно бросившейся на штурм ямбов и хореев: всё зависит от того, под каким углом смотреть на юного мечтателя: «Я лежу на полу, я смотрю в потолок, я, наверное, стану поэтом… Я уроки никак приготовить не смог, потому что был занят сонетом» [4].
Нина Саранча – тонкий психолог, чуткий знаток детской души. Она всем своим творчеством показывает: мир ребёнка – особый, он малопонятен взрослому человеку. Взрослый в нём – чужак, посторонний. Н. Саранча – автор, в котором живёт впечатлительный, ранимый, и в тоже время озорной, жизнерадостный, способный заразить весельем окружающих, ребёнок; благодаря этой особенности поэтесса предстаёт настоящим другом малышей: она для них и равноправный участник игр и развлечений, и мудрый старший товарищ. Её стихам присуща занимательность. Остроумные сюжеты заинтересовывают юного читателя, вызывают у него вопросы, помогают строить собственные суждения, позволяют выразить своё эмоциональное отношение к происходящему, дать оценку поступкам героев. Стилистическая тональность большинства её стихов – мягкая, добрая ирония.
Среди современных писателей региона, пишущих для детей, популярностью пользуется поэтесса Эльвира Рехин. Любое явление может для неё стать толчком к созданию сказочного сюжета: начинка для пирога, капли дождя, ползущие по стеклу, или футбольный мяч. Для её стихов характерны лёгкий игровой ритм, лукавая интонация, подвижность звучания, которые легко запоминаются детьми и заучиваются. Такие стихи – забавные, с хитринкой, воссоздающие живую ребяческую речь, а иногда и лепет, – можно написать только при условии тесного контакта с детьми, наблюдая за их поведением, прислушиваясь к разговорам, запоминая интонацию. У Эльвиры Рехин богатый опыт общения с детьми: на протяжении многих лет она активно выступает со своими стихами в детских садах и школах.
Художественное мастерство Э. Рехин способствует тому, что сложные для ребёнка темы становятся доступными. Стихотворение «Бакен», например, в непринуждённой, незатейливой манере знакомит малыша с особенностями речной жизни, обогащает детский словарный запас новыми словами: «А в хрустальном домике Проживают гномики. Вечером на речке Зажигают свечки, Чтобы не было беды Пароходам от воды…» [3, с. 17].
Через литературные произведения автор знакомит детей с явлениями и событиями, выходящими за пределы их личного опыта. Стихотворение «В Кунгурской пещере» рисует, с одной стороны, фотографически точную картину, благодаря которой можно заочно лицезреть красоты уральской природы, с другой стороны – волшебный, фантастический пейзаж: «В загадочном местечке Идём впотьмах со свечкой, На стенах бахрома, Хрустальные дома, То деревца из льдинок, То мощные дубы, Как будто поединок – И чудо на дыбы. Здесь сговорились страхи, Живут и всех страшат, Ни ящерки, ни птахи, Ни мух, ни лягушат. Такая здесь природа, Я видела сама, Противная погода, И каждый день зима» [3, с. 36].
Стихи Э. Рехин осязаемы: краски, звуки, запахи присутствуют в них так реально, что читатель невольно ощущает свою причастность к происходящему. Эльвира Рехин сказочник и натуралист одновременно. На страницах своих произведений поэтесса создала мини-энциклопедию живой природы, благодаря которой можно почерпнуть многие важные сведения: что герань – светолюбивый цветок, почему у ежа на спине иголки, на какую наживку ловить рыбу. Без напыщенной дидактичности и назойливой назидательности поэтесса прививает своему читателю умение замечать и ценить красоту природы и в меру своих сил сохранять её богатства. Воспитательное значение детской поэзии Рехин велико – оно несёт читателям знание.
Детский писатель Николай Башкатов вводит ребёнка в красочный мир богатых художественных образов, способных взбудоражить и расшевелить воображение ребёнка. Так, в стихотворении «Страна Шарообразия» действие переносится в выдуманное государство; благодаря своей композиционной и стилевой особенности произведение выполняет задачу не только позабавить малыша: сходные эпизоды, повторение реплик сосредотачивают внимание и способствуют запоминанию: «…В стране Шарообразии Европы нет и Азии. В стране Шарообразии Везде одни шары. И девочки, и мальчики, И взрослые, как мячики, И все-привсе животные: Шары, шары, шары… И дебри непролазные И те – шарообразные, И даже лужи грязные – И те шарами в ряд. И белые и смуглые Здесь ребятишки круглые, И круглые-прекруглые Все речи говорят…» [1, с. 34].
Прозаическая сказка Н. Башкатова «Даритель счастья», повествующая о зайце, попавшем в западню к волку и лисице и чудесным образом спасшемся от гибели, превратившись в солнечного зайчика, учит детей нравственным основам жизни. В ней автор с юными читателями говорит о человеческих пороках: страхе, глупости, хитрости, хвастовстве. Животные в этой сказке имеют «говорящие» имена, в которые заложены характеристики персонажей: трусливого зайца зовут Дрейф, хищного Волка – Острый Клык, изворотливую, лживую лису – Хитрован; звери имеют ярко выраженный характер, повадки, привычки, пристрастия, у каждого своя биография. Сказка Н. Башкатова, прославляя находчивость и смекалку Дрейфа и осуждая вероломство Острого Клыка и Хитрована, учит маленького человека выбору между плохим и хорошим поступком. Но, пожалуй, самая сильная сторона этого произведения заключается в том, что оно содержит чёткую психологическую установку, своеобразное руководство к действию – ни при каких обстоятельствах не падать духом, не отчаиваться, не сдаваться, искать выход из трудной ситуации.
Богатейшие воспитательные возможности содержатся в сказках Александра Дегтярёва, основную черту творчества которого наблюдательно подметил писатель А. Плетнёв: «В мире, тонущем во зле, писатель Александр Дегтярёв в своих произведениях показывает… что доброта в отношении друг к другу и есть самая мощная сила сопротивления любому злу» [2, с. 7]. Произведения Дегтярёва пробуждают эмоциональную отзывчивость на чужую боль, огорчение или, напротив, радость. Ярким тому подтверждением является сказка «Недотрога», рассказывающая о Снежинке: «…среди мириад узорчатых хлопьев, выделялась своей красотой одна Снежинка. Она была больше других по размеру и наряднее своих подруг. Летала она плавными кругами и светилась изнутри загадочным светом. Ей не хотелось падать под ноги прохожим, чтоб не угодить на лопату дворника, и не лежать потом до самой весны в холодном сугробе. Боялась она даже прикоснуться к тёплым ладошкам детворы, потому что знала: сразу превратится в маленькую капельку воды и умрёт. За это и прозвали её подружки недотрогой» [2, с. 82]. Но хрупкая и боязливая Недотрога, не задумываясь, отдаёт жизнь ради того, чтобы укрепить дружбу мальчика и девочки.
Сказка «Любопытный Поршок», описывающая похождения воробья, которого мальчишки раскрасили под попугая, учит маленького читателя доброму, заботливому отношению к братьям нашим меньшим. Несмотря на комичность главного персонажа сказки и некую шутливость изложения, автор устойчиво формирует в юных читателях ощущение необходимости бережного отношения к окружающему миру, закладывает, фигурально выражаясь, основы морального кодекса будущего взрослого человека, который несовместим с эгоизмом, жестокостью, бездушием.
«Тевризские сказки» Татьяны Стрельцовой можно порекомендовать для чтения школьникам. Они относятся к разряду так называемых бытовых сказок. Произведения Стрельцовой передают быт и обстоятельства народной жизни одного из посёлков Омской области – Тевриза. В них нет лихо закрученной интриги, ярко выраженных положительных и отрицательных персонажей, противоборства злых и добрых сил. Автор не стремится потрясти воображение, ослепить читателя блеском художественного вымысла. У него другая задача: донести мудрость благородного и разумного бытия, научить философскому отношению к жизни.
Через систему сказочных образов автором воссоздаются картины реальной действительности, современность мелкими подробностями быта вплетается в сказочный сюжет и приближает его к читателям. В сказках Т. Стрельцовой герои – обычные деревенские жители – оказываются по соседству с персонажами, которых никогда не встретишь в реальной жизни: лешими, домовыми, колдунами, ведьмами. В отличие от традиционных языческих духов они более уязвимы, часто страдают от людских мыслей и поступков. Так, в сказке «Плач домового», покинутый уехавшими в новый дом хозяевами, домовой горюет из-за того, что его «забыли» при переезде, а сказка «В бане» повествует о том, как дворовые (подчинённые домового, отвечающие за порядок на конюшне и в бане) опечалились оттого, что хозяйка не сказала им спасибо за чистое мытьё. Мифологические существа, если их сравнивать с живыми существами, более человечны. В одной из сказок домовой по-братски делится пшеничной лепёшкой с домовым из соседского дома, заболевшая хозяйка которого не смогла приготовить еду, а соседи, будучи с ней в ссоре, много лет не навещали её. Сказка «Лепёшка для домового» небольшая по объёму, но ёмкая по содержанию: в ней автор поднимает тему духовной изоляции людей, осуждает равнодушие и эмоциональную чёрствость. Стоит отметить, что тема одиночества, которую Т. Стрельцова разрабатывает в своих произведениях, нехарактерна для сказочного жанра, – и в этом, пожалуй, состоит новаторство автора. Но она несёт колоссальную смысловую нагрузку и обосновывает психологическую мотивацию поведения персонажей: от одиночества сходят с ума и убегают из дома в тайгу старики и старухи («Зов леса»), одиночество – причина скверного характера и неблаговидных поступков: в сказке «Расплёсканное счастье» ведьма Галюта превращает собственного внука в щенка.
Сквозной темой «Тевризских сказок» является взаимодействие человека и природы, которая одухотворена, стихийна, полна чарующей таинственности. Любуясь сказочными пейзажами Стрельцовой, невозможно оставаться равнодушным созерцателем: «В то утро я за грибами пошла, – неторопливо и сдержанно ведёт повествование автор в сказке “На солнечной стороне”. – Дом сестры от леса недалеко. И сразу грибные места. Вот я брела-брела по лесу, охотилась за грибами. И тут ложбинка на пути попалась, по ней ручеёк течёт. Дальше я ещё никогда не ходила. А тут вдруг решила посмотреть: какой там лес за ручьём? Здесь как раз два камешка в воде, чтоб перейти и ног не вымочить. Перешла по ним и дальше отправилась. А лес сразу какой-то неприветливый стал. Деревья высокие, солнце застят, шумят что-то недоброе…» [5, с. 9] «Тевризские сказки» источают тёплую, умиротворяющую ауру покоя, раскрывают своеобразие и неповторимость омской глубинки, дают возможность сердцем прикоснуться к красотам сибирской природы.
Татьяна Стрельцова, усвоив колорит народных сказок, следует в своих произведениях особенностям народного описательного стиля: традиционным зачинам («жили-были»), эпитетам («змея подколодная»), вкраплением устаревших слов или диалектов («баушка»). Метафоричный, лишённый какой-либо искусственности, язык её прозы – это путеводная нить, позволяющая приблизиться к изучению народных традиций и культуры прошлого.
Значение литературного краеведения в процессе воспитания подрастающего поколения нельзя недооценивать, поскольку только оно во многом позволяет обрести истинное понимание того, что зовётся «малой родиной», а сказка является одним из наиболее продуктивных по своему воздействию литературных жанров, который успешно справляется с задачей его популяризации на самых ранних этапах развития.
1. Башкатов Н.Т. Великая тайна: стихи и рассказы. Омск: ОмГПУ, 2006. 208 с.
2. Дегтярёв А.А. Зазимок: короткие новеллы и сказки. Омск: Наука, 2005. 91 с.
3. Рехин Э.М. Дед Пыхто: стихи для детей. 2-е изд., доп. Омск: Литограф, 2003. 64 с.
4. Саранча Н. Прочтите детям // Складчина: литературная газета. 2002. июнь. № 2. С. 27.
5. Стрельцова Т. Тевризские сказки // Омская правда. 1994. 15 июля. С. 8–9.
Сказки омского прииртышья читать
Жил-был барсук. Днём он спал, ночами выходил на охоту. Вот однажды ночью барсук охотился. Не успел он насытиться, а край неба уже посветлел.
До солнца в свою нору спешит попасть барсук. Людям не показываясь, прячась от собак, шёл он там, где тень гуще, где земля чернее.
Подошёл барсук к своему жилью.
— Хрр… Брр… — вдруг услышал он непонятный шум.
Сон из барсука выскочил, шерсть дыбом встала, сердце чуть рёбра не сломило стуком.
«Я такого шума никогда не слыхивал…»
— Хррр… Фиррлить-фью… Бррр…
«Скорей обратно в лес пойду, таких же, как я, когтистых зверей позову: я один тут за всех погибать не согласен».
И пошёл барсук всех, на Алтае живущих, когтистых зверей на помощь звать.
— Ой, у меня в норе страшный гость сидит! Помогите! Спасите!
Прибежали звери, ушами к земле приникли — в самом деле, от шума земля дрожит:
У всех зверей шерсть дыбом поднялась.
— Ну, барсук, это твой дом, ты первый и полезай.
Оглянулся барсук — кругом свирепые звери стоят, подгоняют, торопят:
А сами от страха хвосты поджали.
В барсучьем доме было восемь входов, восемь выходов. «Что делать? — думает барсук. — Как быть? Которым входом к себе в дом проникнуть?»
— Чего стоишь? — фыркнула росомаха и подняла свою страшную лапу.
Медленно, нехотя побрёл барсук к самому главному входу.
— Хрррр! — вылетело оттуда.
Барсук отскочил, к другому входу-выходу заковылял.
Изо всех восьми выходов так и гремит.
Принялся барсук девятый ход рыть. Обидно родной дом разрушать, да отказаться никак нельзя — со всего Алтая самые свирепые звери собрались.
— Скорей, скорей! — приказывают.
Обидно родной дом рушить, да ослушаться никак нельзя.
Горько вздыхая, царапал барсук землю когтистыми передними лапами. Наконец, чуть жив от страха, пробрался в свою высокую спальню.
Это, развалясь на мягкой постели, громко храпел белый заяц.
Звери со смеху на ногах не устояли, покатились по земле.
— Заяц! Вот так заяц! Барсук зайца испугался!
— От стыда куда теперь спрячешься, барсук? Против зайца какое войско собрал!
А барсук головы не поднимает, сам себя бранит:
«Почему, шум в своём доме услыхав, сам туда не заглянул? Для чего пошёл на весь Алтай кричать?»
А заяц знай себе спит-храпит.
Рассердился барсук, да как пихнет зайца:
— Пошёл вон! Кто тебе позволил здесь спать?
Проснулся заяц — глаза чуть не выскочили! — и волк, и лисица, рысь, росомаха, дикая кошка, даже соболь здесь!
«Ну, — думает заяц, — будь что будет!»
И вдруг — прыг барсуку в лоб. А со лба, как с холма, — опять скок! — и в кусты.
От белого заячьего живота побелел лоб у барсука.
От задних заячьих лап прошли белые следы по щекам.
Звери ещё громче засмеялись:
— Ой, барсу-у-ук, какой ты красивый стал! Хо-ха-ха!
— К воде подойди, на себя посмотри!
Заковылял барсук к лесному озеру, увидал в воде свое отражение и заплакал:
«Пойду медведю пожалуюсь».
— Кланяюсь вам до земли, дедушка-медведь. Защиты у вас прошу. Сам я этой ночью дома не был, гостей не звал. Громкий храп услыхав, испугался… Скольких зверей обеспокоил, свой дом порушил. Теперь посмотрите, от заячьего белого живота, от заячьих лап — и щёки мои побелели. А виноватый без оглядки убежал. Это дело рассудите.
Взглянул медведь на барсука. Отошёл подальше — ещё раз посмотрел, да как зарычит:
— Ты ещё жалуешься? Твоя голова раньше чёрная была, как земля, а теперь белизне твоего лба и щёк даже люди позавидуют. Обидно, что не я на том месте стоял, что не моё лицо заяц выбелил. Вот это жаль! Да, жалко, обидно…
И, горько вздохнув, ушёл медведь.
А барсук так и живёт с белой полосой на лбу и на щеках. Говорят, что он привык к этим отметинам и уже похваляется:
— Вот как заяц для меня постарался! Мы теперь с ним друзья на веки вечные.
Ну, а что заяц говорит? Этого никто не слыхал.
Прибежала красная лиса с зелёных холмов в чёрный лес. Она в лесу себе норы ещё не вырыла, а новости лесные ей уже известны: стал медведь стар.
И пошла лиса на весь лес причитать:
— Ай-яй-яй, горе-беда! Наш старейшина, бурый медведь, умирает. Его золотистая шуба поблекла, острые зубы притупились, в лапах силы былой нет. Скорей, скорей! Давайте соберёмся, подумаем, кто в нашем чёрном лесу всех умнее, всех краше, кому хвалу споём, кого на медведево место посадим.
Где девять рек соединились, у подножья девяти гор, над быстрым ключом мохнатый кедр стоит. Под этим кедром собрались звери из чёрного леса. Друг другу шубы свои кажут, умом, силой, красотой похваляются.
Старик медведь тоже сюда пришёл:
— Что шумите? О чём спорите?
Притихли звери, а лиса острую морду подняла и заверещала:
— Ах, почтенный медведь, нестареющим, крепким будьте, сто лет живите! Мы тут спорим-спорим, а дела решить без вас не можем: кто достойнее, кто красивее всех?
— Всяк по-своему хорош, — проворчал старик.
— Ах, мудрейший, все же мы хотим ваше слово услышать. На кого укажете, тому звери хвалу споют, на почётное место посадят.
А сама свой красный хвост распустила, золотую шерсть языком охорашивает, белую грудку приглаживает.
И тут звери вдруг увидели бегущего вдали марала. Ногами он вершину горы попирал, ветвистые рога по дну неба след вели.
Лиса ещё рта закрыть не успела, а марал уже здесь.
Не вспотела от быстрого бега его гладкая шерсть, не заходили чаще его упругие рёбра, не вскипела в тугих жилах тёплая кровь. Сердце спокойно, ровно бьётся, тихо сияют большие глаза. Розовым языком коричневую губу чешет, зубы белеют, смеются.
Медленно встал старый медведь, чихнул, лапу к маралу протянул:
— Вот кто всех краше.
Лиса от зависти за хвост сама себя укусила.
— Хорошо ли живёте, благородный марал? — запела она. — Видно, ослабели ваши стройные ноги, в широкой груди дыхания не хватило. Ничтожные белки опередили вас, кривоногая росомаха давно уже здесь, даже медлительный барсук и тот успел раньше вас прийти.
Низко опустил марал ветвисторогую голову, колыхнулась его мохнатая грудь и зазвучал голос, как тростниковая свирель.
— Уважаемая лиса! Белки на этом кедре живут, росомаха на соседнем дереве спала, у барсука нора здесь, за холмом. А я девять долин миновал, девять рек переплыл, через девять гор перевалил…
Поднял голову марал — уши его подобны лепесткам цветов. Рога, тонким ворсом одетые, прозрачны, словно майским мёдом налиты.
— А ты, лиса, о чём хлопочешь? — рассердился медведь. — Сама, что ли, старейшиной стать задумала?
Отшвырнул он лису подальше, глянул на марала и молвил:
— Прошу вас, благородный марал, займите почётное место.
А лиса уже опять здесь.
— Ох-ха-ха! Бурого марала старейшиной выбрать хотят, петь хвалу ему собираются. Ха-ха, ха-ха! Сейчас-то он красив, а посмотрите на него зимой — голова безрогая, комолая, шея тонкая, шерсть висит клочьями, сам ходит скорчившись, от ветра шатается.
Марал в ответ слов не нашёл. Взглянул на зверей — звери молчат.
Сказки сибирских деревень
© Оформление. ООО «БХВ-Петербург», 2018
Предисловие от автора
В Сибири (а это, грубо говоря, всё, что находится за Уралом – больше половины всей территории России) существует много сказов, сказаний и сказок о давно минувших временах, когда наши предки только начали заселять этот суровый, но богатый полезными ископаемыми, пушниной и древесиной край. Наших прародителей окружал неведомый, полный загадок мир. Они жили в нём, любили его и сумели передать его красоту и неповторимость в устных преданиях. Именно тогда и появились в рассказах на ночь (а может, существовали реально) Медовая Борода, Почереда, Золотая Баба, Моряна… а рядом с ними – обыкновенные люди, не испугавшиеся испытаний. Те, о которых и сложили впоследствии эти сказы. Какие приключения им довелось пережить? Все ли смогли устоять пред соблазнами и страхами? В чём заключается истинная любовь? На что способен человек ради любви и дружбы? Ответы на эти вопросы вы узнаете, окунувшись в увлекательный мир сказов. Время, в конце концов, разрушит многое, но останутся сказки, мифы, байки – то, что не умирает никогда, бережно передаваясь из поколения в поколение. В каждой деревне, в каждом селе, рассказанные на свой лад, они, в конце концов, создадут картину мира, в котором жили наши предки и живём мы. И передадут красоту языка Древней Руси, дух вольницы и бесконечной любви к Родине.
Моя бабуля (со стороны мамы) Елена Владимировна Жданова родилась в 1906 году в Сибири. Все записанные мною сказки были услышаны от неё в детстве.
Медовая Борода
Этот сказ про давешние времена. Тогда только-только деревушка наша обживалась. Ну, известное дело, на ту пору, чем лечились – травки всякие пользовали да лесной мёд. В баньке, конечно, парились. Так хворобу и изгоняли. На краешке деревни Марфина избушка стояла. Сам-то хозяин сробил[1] 1
СРОБИТЬ – устар. – Сделать, сработать.
[Закрыть] избу да Богу душу и отдал, надорванный он был. Марфа и осталась одна с детками, их семеро было. Подросли, как водится, оженились да замуж повыскакивали, осталась с Марфой дочка младшенькая, Машутка. Заневестилась и в положенный срок просватали её за местного, Антипом звали. Парень видный, работящий. Дети вскорости по избе затопотали. Так и жили себе потихоньку. Марфа толк в травах знала, к ней все тянулись, ежели что. Антип охотник знатный был, из лесу частенько медок таскал.
Туески[2] 2
ТУЕС, ТУЯС – цилиндрический берестяной сосуд со вставным дном и крышкой для хранения продуктов.
– Посластиться разохотился, Антипушка?
Оглянулся, а в кустах дедок стоит. Сам невысокий, кряжистый, а борода цвета солнышка, слышь-ка, почти до земли кучерявится. И в этой бороде пчёлки шебаршатся! Антип тут и смекнул, что к нему сам дедко Медовая Борода вышел. Заробел малость, но голос не потерял. Поклонился и ответствует:
– По добру ли по здорову ли, дедушко?
Тот со строги?нкой в глазах глянул:
– На добром слове всё по-хорошему!
– По уму ли медок берёшь, Антип?
– Дак треть себе, остальное пчёлкам, а где и четверть беру, чтоб без обиды.
Дедок бороду погладил, кивнул.
– Давно за тобой гляжу, знаю, не обижаешь лесной народ. Понапрасну не стрельнёшь, травку, ветку зряшно не ломишь. А по здорову ли Марфа?
Ну, поговорили так, Антип молчит, ожидаючи. А дедко нагнулся и поднял из травы туесок, на?больший[3] 3
НА?БОЛЬШИЙ – диалект. – Бо?льший по размеру.
– Вот, – говорит, – подарочек от меня. На зиму до?лжно хватить.
Антип опять же склонился в поясном поклоне. Разогнулся, а дедка, как и не было! А туесочек-то стоит. Сам сжелта[4] 4
СЖЕЛТА? – диалект. – Жёлтый.
– Помнит меня, однако ж, Медовая Борода! Ты, Антип, никому не сказывай про то, что было.
А среди внучат Марфы девчоночка росла на особинку. Сама не высокенькая, а волос с рыжинкой и глаза, слышь, жёлтеньким посверкивают. Чисто золото! Шустренька на ногу и к бабушке больно льнула. Да и Марфа выделяла её. То ленточку красну в косу ей подарит, то бусёшки выменяет, опять же красненькие. Ну, и прозвали Баской, а то проще, Бася[5] 5
БАСА (БАСЯ) – устар. – Краса, красота, хорошество, пригожество, нарядность, изящество; украшение, наряд, украса, прикраса.
Эта девчушка и услыхала разговор о Медовой Бороде, и ну к Марфе приставать: «Обскажи, баушка[6] 6
БАУШКА – устар. – Бабушка.
Живёт по лесам Сибирским народец, что за тайгой-лесом присматривает. Кто, значит, за озёрами, кто за реками, а кто и за пчёлками. Медовая Борода как раз и есть пригляда за медовым богатством. Ежели сам он не покажется, то ни в жисть[7] 7
ЖИСТЬ – прост. – Жизнь.
[Закрыть] его не углядишь средь леса. Росточку небольшого, но крепенький, а по летам завсегда в одной поре – дедушкой всем видится. Какой похитник[8] 8
ПОХИТНИК – устар. – Вор.
[Закрыть] объявится на пчёлок, к примеру, мёд хапает с излишеством, он на это тут же укорот найдёт. А коли человек по-ладному себя ведёт, с почтением к лесу, то и дедко всенепременно поможет. Наведёт на дупло с таким медочком, что от одной ложки человек оклемается, если болен чем.
Ну, поговорили они. Дальше всё своим чередом пошло. Марфа по хозяйству суетится. Известное дело, когда семья большая, на месте не засидишься. То одно, то другое, а там и ночка в окно стучится. День за днём зима прокатилась, с крыш закапало, повеселел народ – дело к теплу. Да случилась беда. Мальчонка, пострел соседский, на реку побёг, надёргать рыбицы на ушицу, да под лёд-то и ушёл. Антип на ту пору из леса возвращался. Кинулся за ним, спас. Отрок быстренько оклемался, а вот Антип занедужил. Марфа и так и сяк бьётся, ничто не помогает. Ну, ясно дело, медку-то нет. Вышел весь на ребячьи болезни. Тут Бася и говорит:
– Баушка, а ну как, сходить к Медовой Бороде, попросить медку? Нешто откажет?
Та принахмурилась да и кивает:
– Придётся, видать, на поклон идти. Но сама я не дойду, ноги не те, а ты больно мала.
– Да где же мала? – вопро?сит Бася. – Мне уж десятая зима! Пусти, родненькая, тятя[9] 9
ТЯТЯ – устар. разг. – Папа, отец.
[Закрыть] не выдюжит[10] 10
ВЫДЮЖИТЬ – устар. – Выдержать, выстоять.
Марфа призадумалась. Дедок так просто не покажется и найти его не всякий сможет. Кивнула внучке. Пошептались они, старушка рассказала, как добраться до заветного места и какие слова сказать, чтоб откликнулся Медовая Борода. На утренней зорьке сунула Бася краюху хлеба за пазуху, на лыжицы встала и в лес задками отправилась. Идёт шустро, знамо дело, до ночи надо воротиться, потому как волки по ночам лютуют. Хоть и на тёплое свернула зима, а сторожиться надо. В тайгу как зашла, сразу хлебушка отломила кусочек, на пенёк положила – улестить, вишь[11] 11
ВИШЬ – устар. диалект. – Видишь.
Далее пробирается, головёнкой по сторонам вертит, заметки выглядывает. В тайге-то скоренько можно обмануться и с концами пропасть. Тятя её не раз брал с собой, не так далеко, правда, но она приметливая, запоминала всё, что видела. Хоть и споро шла, а по сторонам всё ж оглядывалась. Там деревце на особинку ветками в сторону, тут полянка с рябиновыми кустами. То след лисы поперёк пути вяжется, то заяц петельки оставил. Заприметила, что птичка неподалёку лётает. То вспорхнёт слева, то справа голос подаст. Бася за ней поглядывает. Видать, не проста птичка, ох, не проста! От самой деревни провожает.
Долго ли коротко, добралась до нужного дерева. Вроде, и птичка-спутница не кажется более. Поворотилась, как бабка сказала, на все стороны, поклоны отбила, да и говорит:
– Медовая Борода, за тобой правда всегда. Сделай милость, покажись, с Басей малость подружись!
Сказала и примолкла. Смотрит, нет ответа. Всё повторила ещё раз. Тут вдруг дерево и распахнулось, ровно дверка. А оттуда тёплышком пахнуло. Бася смотрит, ступеньки изукрашенные вниз ведут. По бокам уступчики и всё, понимаешь, будто солнышком светит. Девчоночка лыжики к деревцу прислонила и внутрь вошла. А за спиной всё и захлопнулось. Спустилась она вниз, а там горница деревянная. Ладненькая кровать стоит, стол, как положено, и креслица вокруг, всё, знамо, из дерева. На столе посуда резная, наполненная мёдом разным. Слышит голос за спиной:
– Устала, поди? Садись, поешь медку.
Она обернулась, увидала Медовую Бороду, заробела малость. Ну, ясно дело, недолетка[12] 12
НЕДОЛЕТОК (-КА) – прост. – Тот, кто не достиг совершеннолетия, подросток.
[Закрыть] ещё! Однако хорохорится, виду не подаёт, что в испуге. Присела чинно, хозяина ждёт, чтоб первым из чашки черпанул. А тот похохатывает:
– Али боишься меня, Бася? Али нет у тебя доверия? Что ж ты не ешь медок?
Бася встала, поклонилась да и говорит:
– Нет, батюшка, не боюсь. Токмо[13] 13
ТОКМО – устар. – Только.
[Закрыть] не принято у нас поперёд хозяина в чашку лезть.
Медовая Борода видит, что не сомлела[14] 14
СОМЛЕТЬ – устар. – Оцепенеть, упасть в обморок. С. от страха.
[Закрыть] девчушка. Улыбнулся, приглашает ещё раз за стол и сам садится рядышком. Бася съела одну ложечку, чует, всю усталость как рукой сняли. Съела вторую – у неё сил прибавилось вдвое против прежнего, а третью еле доела, так насытилась.
– Благодарствую, дедушка, – говорит, – за хлеб да соль. Только не дело мне засиживаться здесь, добрый хозяин. Домой торопиться надо, батюшка в недуге лежит. Прошу тебя, Медовая Борода, сделай милость, удели медку, по возможности, чтобы от тятеньки беду отвести.
– Знаю я о твоей беде, Басенька, – отвечает ей дедок, – и мёд уж приготовил. Вот он, в туеске стоит.
Бася в минутку поднялась и к лестнице. А там хода нет.
– Не торопись, милая. По лесу тебе не пройти, наверху уж ночка безлунная, час волчий настал. Отведу я тебя по своим путям-дорожкам. Только, чур, никому не рассказывать!
Делать нечего, Медовая Борода здесь всему указ. Пожалилась в уме Бася о лыжицах, что наверху остались, тятино подаренье. Но смолчала, чего хозяина обременять. И так напросилась в гости, выклянчила мёду.
Пошли они под землёю. Басе чудно? – все ходы изукрашены резьбой да фигурками. Везде светло, а откуда свет, непонятно. Под ногами дощечка к дощечке стелено, да не просто так, а узором невиданным. От всего этого дух перехватывает! Медовая Борода помалкивает да промеж всего на Басю поглядывает. Ну, пришли всё ж к узорчатым дверям. Хозяин стукнул два раза, ход открылся. Оказалось, что они на задках, у бани. В аккурат берёзка там стояла, вот из неё выход и распахнулся! Шагнула девчоночка наружу, глядь, а сзади никого. А у дерева лыжицы стоят. Подхватилась и бёгом до избы. Марфа уж вся изошла, все жданки съела[15] 15
ЖДАНКИ СЪЕСТЬ (народное, шутливое) – чрезмерно долго и с большим нетерпением ждать, дожидаться чего-либо, кого-либо.
Про то, где мёд взяла, Бася никому не рассказывала, да шибко и не спрашивали. Знамо дело, догадывались, что мёд весною не просто так появился. Иной раз, какой и спросит, что, мол, с Медовой Бородой задружилась? Но у Баси на всё ответ был. Не ваше, мол, дело! А коли шибко любопытствуете, то сходите попытать Медовую Бороду. Ну, народ и отстал. А Бася по стопам Марфы пошла, тоже знахаркой стала и в травках дюже понимать наловчилась. С Медовой Бородой встречалась потом и не раз. Но об этом другой сказ будет!
Заячья тропка
Бася, что к Медовой Бороде ходила, в девическую пору вошла. Марфину науку переняла крепко. Хоть и не велика годами была, а ходил-заглядывал к ней народ частенько. И то сказать, не всякому дано травку понимать. Нет, конечно, малину-бузину заварить на чай, или там подорожник, череду собрать по весне, оно каждый может. Однако ж до тонкостей, чтоб с пониманием, так это редкость. Тут, понимаешь, чуйку надо иметь. А Бася запросто различала травки и в каждой толк знала. По крови, видать, от бабки передалось. Марфа ещё по избе бегала, но хворала часто. И то сказать, старшему внуку сорок годков отстучало. Вот и считай, сколько ей было!
На ту пору приехал к нам купец с сыном. Сам Ерофей Митрофанович пожаловал. Обычно-то с приказчиком прибывал, а тут старшо?го взял. Парнишка лет восемнадцати, как и Бася. Ерофей тогда в силе был, почитай всю пушнину ему сдавали. Жировал, что и говорить! Ну, чин-чином сына водит, знакомит с делами. К Антипу в избу зашли, а тут и Бася по хозяйству прово?рит[16] 16
ПРОВО?РИТЬ – прост. – Делать какую-то работу быстро.
И этого Пантелея тоже скрутило. Пожи?ву[17] 17
ПОЖИ?ВА – устар. – То, чем можно поживиться. Выгодное приобретение.
[Закрыть] они с отцом взяли зимнюю, да и уехали восвояси. А Пантелей зачастил наездами. Чуть ли не каждую седмицу[18] 18
СЕДМИ?ЦА – устар. – Неделя.
[Закрыть] бывал! И всё с подарочками. То колечко, то бусы, то браслетик какой. Однако Бася не принимала. «У меня, – говорит, – такого добра хватает!» Тот с подкатом к ней: «Мол, женюсь!» и на это у девушки ответ был: «Сама себе жениха выберу, да не по деньгам, а по? сердцу!» Пантюша зубами скрежещет, а подступиться не может. Ну, и замыслил недоброе, силой взять. А там, думает, стерпится-слюбится. Приехал ночью утайкой с дружками. На тропе, где Бася в лес обычно ходит, засаду устроили. Ждут-пождут, да и сморило их. Чай, ночь-то не спамши!
Бася утречком мимо них ходко проскользнула. Идёт, о своём думки крутит. Хотелось ей найти травку особую, о коей бабка сказывала, жи?вотень[19] 19
ЖИ?ВОТЕНЬ (жи?ва, жи?вота) – диалект. – Старинное название женьшеня.
Ну, ясно дело, ни с кем мыслишками не делилась, сама по себе ходила, высматривала. А в округе май горит, солнышко прила?скивает. Скоренько добралась до задуманного места, огляделась, отметочки сделала, потому как у нас заплутать враз[20] 20
ВРАЗ – разг. – Одновременно, вместе, разом.
[Закрыть] можно, и пошла туда, куда редко кто заглядывал – к болоту. Марфа ей как-то сказывала, что на том месте прежде город стоял и вокруг него росла жи?ва не меряно. Подивилась Бася на те речи и, хотя матушка велела ей из головы это выбросить – небылица, мол! – крепенько запомнила. Бася давеча ходила в эту сторону, да водил её Хозяин по кругу. На сей раз подготовилась, травку-оберег взяла, опять же и заговор новый придумала. Ну, сказала всё, как надо, и ступила вперёд. И вправду, легко пошла, как по? полю. В голове образ жи?вотеня держит, какой бабушка расписала. Да лёгкость скоро закончилась, кусты колючие со всех сторон подступили. Бася и так и этак крутится, нет хода и всё! Тут откуда ни возьмись, зайчишка под ноги выкатился. Глазком сверкнул и под куст порскнул. Глядит наша травница, а там тропочка едва видная. Пала на землю и поползла. Уж так ей хотелось исполнить задуманное! Пролезла всё ж таки промеж колючек. Поободралась, правда, но не унывает, веселёхонька. Только оправилась, а ей навстречь парень идёт, чубатый, волосом светел, глазок тёмный. Сам одет во всё серое, улыбкой светит, а зубки, вишь, по переду широконькие.
– Чего, – говорит, – ненагляда[21] 21
НЕНАГЛЯДА – разг., устар. – Любимая, милая, дорогая.
Бася сторо?жко[22] 22
СТОРО?ЖКО – устар. – Осторожно, с оглядкой.
[Закрыть] смотрит. Не поймёт, кто такой, откуда взялся. А потом заприметила – на ушах у него ровно пушок мягонький. Смекнула, что к чему. Поклонилась да и сказывает:
– Говорят люди старые, что здесь на болоте город стоял, а вокруг трава росла заветная. Хотелось бы ту травку увидеть да собрать для пользы человеческой.
– Не забыть бы дорожку, – намекает девушка на непроходимые кусты.
Тот ей травку засушенную протянул:
– Вот тебе указка. Бросишь поперёд и пройдёшь без задержки.
Взяла Бася травку, а это заячья трава. Тут она и вовсе в мысли укрепилась, кто перед ней. Попечалилась малость, по душе ей паренёк-то пришёлся. Но что поделать. Поклонилась и назад пошла. А он ей вдогон:
– А что ж имени моего не спросишь, Бася? Али интересу нет?
– Отчего же нет, – ответствует она, – по нраву ты мне, да только не человек. Чего ж сердце зряшно маять?
Вздохнула и смотрит на него. Парень тоже опечалился, головой поник. Потом глянул да и молвит:
– Кто ж знает, как судьба повернёт? Может, я в таком обличии навек останусь, а может, и ты захочешь в мой облик перекинуться.
– Обратно по той же тропе к дому не ходи, у берёзок сверни, через пролесок скорее. Возле зарослей бузины поджидает тебя воздыхатель, умыкнуть хочет силой.
Бася глазами сверкнула:
– Спасибо за помощь! А с похитником я разберусь.
Назад-то в момент добралась, будто и не шла вроде. Ребят знакомых подговорила об насильнике. Те бока намяли славно Пантюшеньке! Бася, хоть и отговорилась ото всех сватов, но никого худым словом не обидела, а деревенские за своих крепко стояли. Купец прознал о сыновних проделках, за бато?г[23] 23
БАТОГ – устар. – Палка, дубина.
[Закрыть] схватился: «Позорить меня вздумал!» Наподдал, конечно, сынку. А тот пуще злобу затаил на девушку.
Ну, лето колесом прокатилось. За делами-покосами времечко быстро бежит. Вот уже и лист желтеть начал. Бася обещание заячье помнит, в лес опять собралась. Торбочку для трав взяла, травку дарёную на груди припрятала. Марфа видит, что неспроста внучка в лес идёт. Напутствует:
– Ежели что не так, помощи у Хозяина проси, чай, не откажет тебе!
– Спасибо, родненькая, только есть у меня защитник.
Сказала, а сама неулыбчиво смотрит. У бабки сердце защемило. Всё лето за лапушкой своей глядела, видела, что она смурная[24] 24
СМУРНА?Я – устар. разг. – Печальная, грустная.
[Закрыть] частенько. Сколь ни спрашивала, ответа не дождалась. Ну, смекнула сама, что к чему. Поняла, что на сердце у Баси тоска любовная. Но невдомёк, по ком девка сохнет! А тут запах травки от девушки почуяла, дошло до старой!
– Охти мнешеньки! – всплеснула руками. – Да ты никак на заячью тропку попала? Неужто сам Заю?ша к тебе вышел?
И чуть слышно добавила:
– Я так его и звала про себя…
Видит Марфа дело такое, пригорюнилась, а потом и говорит:
– Что ж ты, милая, отца-мать бросишь?
– Как бросить, баушка? Ясно дело, этого не будет. Схожу за жи?вой и вернусь.
Проговорилась в печалях!
– Ты что удумала? По себе ли дело взяла? Пропадёшь ни за грош!
Но та упёрлась намертво:
– Обещалась и пойду, не держи зла, не молви горечь.
Ну, пошумела бабка малость, потом всплакнула и проводила внучку до лесу. В этот раз Бася резво дошла до кустов непроходных. Огляделась, веточку заячью наземь бросила. Тут дорожка и открылась ей ровная. А на другом конце уж и Заю?ша ждёт. Без улыбки, правда. За руку девушку взял и повёл ей всё показывать. И увидала тут Бася город красоты невиданной. Не избы, а терема кругом. Да изукрашены так, что любо-дорого посмотреть. Резьба затейливая, где цветы да листочки, а где и звери лесные. И до того искусно всё сделано, что почти что дышит! А в другом разе выписаны и люди, как живые. То девушка с парнем рядом стоят, то женщина с детками, то богатырь. И опять же, кажется, что вот-вот сойдут и рядом встанут. В общем, мастеровитый люд, что и говорить. Все жители добротно одеты, в сапожках да расшитых рубахах. Хмурых лиц и не видать, с улыбкой народ жил.
– Отчего ж, – спрашивает Бася, – город сей сгинул? и куда весь люд подевался?
– Как пошёл с Северу лёд, так и люди к теплу подались, туда, где солнышко грело. Разбрелись по всему свету белому. А город со временем под землю ушёл, болотом покрылся.
– Нет, – говорит тот, – никак нельзя. Потому что нет мира меж людьми, жадность да зависть их душит, а жи?ва токмо там легко в руки даётся, где царят понимание и любовь.
– Жалко мне зараз столько травы губить, – раздумывает девушка. – Опять же, когда ещё сюда попаду, кто ведает?
И к Заю?ше поворотилась, в глаза смотрит. Тот плечиками поводил и помалкивает. Бася насмелилась, присела и давай выкапывать, потому как в самом корне вся сила. Набрала, сколь решилась, торба полнёхонька. Пора, вроде, и до дому. Ну, пошли оба не в радостях, об одном и том же думки у них – как бы вместе быть. Идут, дороги не замечают. За руки взялись, смотрят они друг на дружку, в глазах у них тоска. А уж и прощаться пора. Напарник в руку ей камешек положил да шепнул:
– Как придёт охота повидаться, стукни об порог, на ночь глядя. Я и выйду тогда на окраину.
Камень тёмного цвету, в ладонь вмещается, но увесистый, а с виду не скажешь. Пошла по тропке к деревне травница, почти из леса вышла, а позади и грохнуло вдруг. Выстрел! Она спохватилась да назад кинулась. Смотрит, у куста Заюша лежит в крови, и наполовину в обличье заячьем. Поверху парнем остался, а ноги уж в серые лапки превратились. Рядом Пантелей со своими дружками ухмыляется: