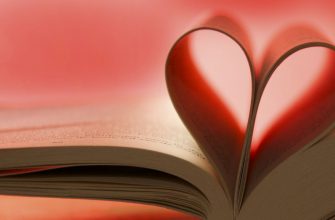Новое в блогах
Сказки Вологодского края
«Байка о щуке зубастой»
В ночь на Иванов день родилась щука в Шексне, да такая зубастая, что боже упаси! Лещи, окуни, ерши – все собрались глазеть на нее и дивовались такому чуду. Вода той порой в Шексне всколыхалася; шел паром через реку, да чуть не затопился, а красные девки гуляли по берегу, да все порассыпались. Экая щука родилась зубастая! И стала она расти не по дням, а по часам: что день, то на вершок прибавится; и стала щука зубастая в Шексне похаживать да лещей, окуней полавливать, издали увидит леща, да и хвать его зубами – леща как небывало, только косточки хрустят на зубах у щуки зубастой.
Экая оказия случилась в Шексне! Что делать лещам да окуням? Тошно приходит: щука всех приест, прикорнает. Собралась вся мелкая рыбица и стали думу думать, как перевести щуку зубастую да такую торовастую. На совет пришел и Ерш Ершович и так наскоро взголцыл: «Полноте думу думать да голову ломать, полноте мозг портить; а вот послушайте, что я буду баять. Тошно нам всем тепере в Шексне; щука зубастая проходу не дает, всякую рыбу на зуб берет! Не житье нам в Шексне, переберемтесь-ка лучше в мелкие речки жить в Сизму, Коному да Славенку; там нас никто не тронет, и будем жить припеваючи да деток наживаючи».
И поднялись все ерши, лещи, окуни из Шексны в мелкие речки Сизму, Коному да Славенку. По дороге, как шли, хитрый рыбарь многих из ихней братьи изловил на удочку и сварил забубённую ушицу, да тем, кажись, ч заговелся. С тех пор в Шексне совсем мало стало мелкой рыбицы. Закинет рыбарь удочку в воду, да ничего не вытащит; когда-некогда попадается стерлядка, да тем и ловле шабаш! Вот вам и вся байка о щуке зубастой да такой торовастой. Много наделала плутовка хлопот в Шексне, да после и сама несдобровала; как не стало мелкой рыбицы, пошла хватать червяков и попалась сама на крючок. Рыбарь сварил уху, хлебал да хвалил: такая была жирная! Я там был, вместе уху хлебал, по усу текло, в рот не попало.
«Божьи коровы»
. Пошел мужик с бабой в церковь. Вышел поп и стал говорить народу. «Вот, православные! За всякое воздаяние бог вам в шесть раз воздаст. Приводите корову. Бог вам шесть коров пошлет». Пришли мужик с бабой, и говорит мужик жене: «Слушай, жена, поди, как правду говорит: одну корову ладим богу. Он нам шесть раз воздаст. Отдадим свою коровенку». Наутро встали, отвели корову попу. Обрадовался поп, похвалил их за усердие. Сам пошел, пустил мужикову корову на свой выгон. А было у него пять коров.
Вот гуляла мужикова корова с поповскими, а к вечеру пошла домой к мужиковой избе и поповых коров с собой увела. Сидит мужик со своей старухой на завалинке, пригорюнились. Последнюю корову отдали – пить, есть нечего. Видят, их корова идет и еще пятерых с собой ведет. Обрадовались больно. «Правда знать поп говорил. » Загнали всех коров себе по двор. А в это время хватился поповских коров: искал, искал – нигде нет!
Пошел в деревню. Увидел старика со старухой. Спрашивают они попа: «Куда, батюшка, идешь?» – «Не зашли ли к вам мои коровы?» – «Нет, батюшка, нет у нас твоих коров. Стоят в хлеву у нас коровы, так те не твои, а божьи: господь прислал». Пошел поп в хлев. «Это же мои коровы», – говорит. «Как так твои? Сам говорил нам: «Дадите корову богу, господь вам в шесть раз больше коров пошлет?» Вот они божьи коровы и стоят». Поспорил поп, покричал, да так и ушел ни с чем.
«В ученьи у лесового»
У одного мужика был сын, вот он и не знает, кому его в ученье отдать; подумал да отдал его дедушке лесовому в науку. У лесового было три дочери, вот он и говорит: «Первая дочушка, истопи избушку, калено-накалено». Она истопила, дед и бросил мальчика в печь – там он всяко вертелся. Дед вынул его из печи и спрашивает: «Чего знаешь ли?» – «Нет, ничего не знаю», – ответил мальчик. «Другая дочушка, истопи избушку калено-накалено». И опять бросил мальчика в печь, тот всяко там изгибался. Дед вынул его из печки и спрашивает: «Ну, что знаешь ли?» – «Ничего не знаю». – «Третья дочушка, истопи избушку калено-накалено». Она истопила, он опять бросил мальчика в печь, тот всяко там перевернется и веретенцем-то, опять вынул его и спрашивает: «Ну, теперь научился ли чему?» – «Больше твоего знаю, дедушко», – ответил мальчик. Ученье окончено, дед лесовой и заказал батьку, чтобы он приходил за сыном.
Отец пришел, а дед ему сказал: «Приходи завтра», а мальчик и говорит: «Дедушко, я пойду, провожу тятьку», а по дороге и наказывает: «Вот что, тятька, когда ты завтра придешь, то дед наведет 12 соплеватых парней, и все они будут вынимать платочки из левых карманов, а я выну из правого кармана».
На завтра по приходе отца дед вывел соплеватых парней, и батько узнал сына по примете, сказанной заранье. Ну, делать нечего; пришлось лесовому отпустить парня из науки. Пошел батько с сыном домой, а на толчее сидит ворона и каркает во все горло. Отец и говорит: «Ты много теперь знаешь – так скажи мне, о чем ворона каркает?» – «Ах, тятя, тятя, я бы тебе сказал, да ты осердишься». – «Ах, ты, кормилец, я три года яичка не съедал, – все берег тебя выкупить». – «Ну, так слушай, тятя: ворона на своем языке каркает о том, что мне когда-то придется ноги водою мыть, а тебе достанется эту воду пить». Отец на него прогневался, а сын ему и говорит: «Ясли ты на меня осердился, тятя, так веди меня продавать жеребчиком, выручай деньги только с обратью не продавай».
Отец свел жеребенка на ярмарку продавать – где ни взялся этот дед – учитель и покупает жеребчика. «Что возьмешь за жеребчика?» А отец и говорит: «Сто рублей – только обратку назад». Дед отдал деньги и взял коня. Отец пошел и заплакал и про себя говорит: «Сына отдал, а деньги взял». Обернулся назад, а сын и бежит к нему: «Что, тятька, полно ли денег?» – «Не хуже бы еще, кормилец, еще». – «Ну, так я опять обернусь жеребчиком – веди продавай».
Лесовой же дед гонял да гонял жеребчика – всего спарил, одной шерстинки не осталось сухой, подогнал к своему дому, привязал к крыльцу, а сам сел обедать; раз хлебнул да и глядит в окошко. Идет царева дочь на родник за водой, а жеребчик и говорит: «Вылей на меня ведерко воды, царевна, очень я сопрел». Она вылила на него, а конь обратился рыбкой-ершом да и бух в родник, а дед оборотился щукой да за ним; щука хотела схватить ерша, да ерш показался ей костоватым, да вдруг и обратился кольцом и скакнул в ведро царевой дочке. Она надела кольцо на руку и днем носит кольцо, а ночью спит с молодцом.
Дед про это узнал, взял рожок и пошел к цареву дому играть; царю игра больно полюбилась, зазвал его в свой дворец и говорит: «Выиграй и разведи, что есть в моем доме и в моем царстве нового». А дед играет и разводит: «Твоя дочь днем играет кольцом, а ночью спит с молодцом». Это молодец, который сидит на руке кольцом и шепчет царевой дочери: «Отец у тебя будет просить кольцо, так ты не отдавай меня, а если будет приступать непомерно, то ты возьми изругайся и кольцо брось на пол, оно и рассыплется на пять частей, одна частичка подкатится тебе под ногу, а ты возьми и приступи». Ну, так и сделалось, а дед обернулся петухом и склевал остальные частички и остался ни с чем, а молодец обернулся с царской дочерью.
Спустя много времени, отец и приходит попрошать; сын подал ему милостыню и спрашивает: «Ты, дедушко, откуда?» – «Дальний, кормилец». – «Так ночуй у нас». Старик остался ночевать и лег на печку, да ночью гораздо сопрел и вышел остудиться, а в сенях стоит вода, он взял этой водицы и попил. Встали поутру, а сын его и спрашивает: «Ты, дедушко, ходил ночью до ветру и попил воды в сенях?» Старик ответил: «Верно, кормилец». – «Ну, так, дедушко, ты отец, а я тебе сын, я в этой воде ноги мыл, а ты пил; помнишь, когда шел я из ученья от дедки лесового, а ворона каркала, я тебе это предсказал, а ты прогневался: ну, одним словом, ты мне отец, а я тебе сын, оставайся у меня жить, я тебя допою и докормлю и твою кость похороню». Так вот сколь умен и мудрен лесовой дедушко: захочешь – всему научит, а прозеваешь – кожу слупит.
«Все ли в доме поздорово?»
«Здорово, брат Пантюха!» – «Здорово, брат Сидорка!» – «Все ли у вас дома-то по-здорово?» – «А все, брат, поздорово, да одно, брат, нездорово». – «А что же?» – «Да ведь старшего-то брата повесили» – «За что его повесили-то?» – «Да за шею». – «Да в чем его повесили-то?» – «В старом будничном кафтане». – «Да за какую винищу-то?» – «Походил в церковицу, украл книгу стихарницу, махарницу, книгу хлопотурницу. И это-то все бы еще ничего, да леший сносил на колоколицу и спихнул там кыркуна». – «Вы Ивана-то Семеновича просили бы». – «Мы уж и то его просили, ягод и брусницы носили, да не берет».
«Глупая деревня»
В одной церкви не было ни попа, ни дьякона лет тридцать. Вот проживал в этом приходе старик со старухой; грамоты сроду не знал он аза в глаза. И говорит старик своей старухе: «Вот что, старуха! Наймемся-ка мы у прихожан, – я буду попом, а ты дьяконом». Вот старик объяснил своим прихожанам: не желают ли они его принять в священники? Прихожане на этот вопрос очень были рады какому ни на есть священнику, с удовольствием приняли старика. Старик дожил до первого воскресенья и начал служить обедню, и в этот день много было народу у церкви, потому что каждый христианин желал посмотреть нового священника. Священник у них был не чумак, увидел, что очень много народу, взял книгу и вышел из алтаря и начал говорить: «Слушайте, православные миряне! Слыхали ли вы чтение и пение?» Отвечают ему миряне: «Слыхать, батюшка, слыхали».– «Ну, слыхали, так ступайте домой, здесь делать нечего».
Вот и пошли миряне из церкви домой, идут дорогой и разговаривают: «Что же, ребята, прежде у нас не этакие были попы, потому что-нибудь попоют и почитают, у нас новый поп что не пел и не читал. Этак славно, ребята: обедать, сразу отпустил!»
Вот дожили до другого воскресенья и опять пошли к обедне. Новый поп, взявши, наклал полное кадило уголья горячего, вышел из алтаря да и говорит: «Слушайте, православные миряне! Я что буду делать, так вы? все это делайте», – и начал махать кадилом, И все миряне начали махать руками. И вывалился попу каленый уголь за голенище; поп упал на спину и давай трясти ногою и все миряне упали на спины и давай трясти ногами.
В это время проезжал [мимо] какой-то барин и посылает кучера узнать время. Кучер прибежал на паперть и видит: лежит тут старуха лет девяносто пяти, едва шевелит ногою. Спрашивает ее кучер: «Что, бабушка, много ли времени?» – «Да вот уж, батюшка, пинанье отошло, ляганье начинается». Кучер отворил двери в церковь и видит, что весь народ лягает ногам, затворил двери и обратно пошел к барину.
И спрашивает его барин: «Что, кучер, много ли времени?» «Ничего не знаю, сударь, сходите сами, так узнаете». Барин пошел, сам увидал на паперти старуху: едва шевелит ногою. Спрашивает ее барин: «Слушай, бабушка, много ли времени?»– «Да вот уж, батюшка, пинанье отошло, ляганье идет». И отворил двери в церковь и видит, что весь народ лягает ногами. С этого, времени так понравился священник барину, что: «Отроду не видывал этаких попов: в какое чувство приводит народ!»
«Два брата»
И пришли к судье Шемякину все четверо, а бедный взял большой камень и завязал в платок. И стал его брат обсказывать об своей лошади. В это время бедный поднял платок с камнем и погрозил им судье, а судья подумал, что тот ему сто рублей денег сулит, и рассудил так, что покуда хвост у лошади не вырастет, и пущай держит бедный лошадь у себя. Потом стал обсказывать второй богатый об своем младенце, а бедный опять камнем погрозил, и судья Шемякин рассудил так: «Ты дай ему свою жену, так он и сделает тебе другого младенца». А старика, у которого убит был сын, рассудил так: «Ты, дедка, встань на мост, а он пущай едет на лошади из-под мосту, и скачи прямо на него». Старик скочил с мосту, на бедного не попал, а сам убился. А бедный и поехал преспокойно домой.
«Добро, да не больно»
«Брат, здорово!» – «Брату поклон» – «Ты, брат, отколе?» – «Я, брат, с базара». – «А что на базаре?» – «Возы-то возам, а деньги-то по мошням». – «А ты, брат, чего купил?» – «Решето гороху». – «Это, брат, добро»: – «А добро, да не больно». – «А что?»– «Стал высыпать да просыпал». – «Это, брат, худо». – «А худо, да не больно». – «А что?»
– «А стал огребать, да четверик нагреб». – «Это, брат, добро». – «А добро, да не больно».– «А что? – «А посеял, да редок».– «Это, брат, худо». – «А худо, да не больно» – «А что?» – «А редок, да стручист». – «Это, брат, добро». – «А добро, да не больно». – «А что?» – «А пришла попова тарлыга, да все и съела».
«Журавль и цапля»
Летала сова – веселая голова; вот она летала, летала и села, да хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела, и опять полетела; летала, летала и села, хвостиком повертела да по сторонам посмотрела. Это присказка, сказка вся впереди.
Жили-были на болоте журавль да цапля, построили себе по концам избушки. Журавлю показалось скучно жить одному, и задумал он жениться. «Дай пойду посватаюсь на цапле!»
Пошел журавль – тяп, тяп! Семь верст болото месил; приходит и говорит: «Дома ли цапля?» – «Дома». – «Выдь за меня замуж».– «Нет, журавль, нейду за тя замуж: у тебя ноги долги, платье коротко, сам худо летаешь, и кормить-то тебе нечем! Ступай прочь, долговязый!» Журавль как не солоно похлебал, ушел домой.
Цапля после раздумалась и сказала: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля». Приходит к журавлю и говорит: «Журавль, возьми меня замуж!» – «Нет, цапля, мне тебя не надо! Не хочу жениться, не беру тебя замуж. Убирайся!» Цапля заплакала со стыда и воротилась назад. Журавль раздумался и сказал: «Напрасно не взял за себя цаплю; ведь одному-то скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж». Приходит и говорит: «Цапля! Я вздумал на тебе жениться; поди за меня».– «Нет, журавль, нейду за тя замуж!» Пошел журавль домой.
Тут цапля раздумалась: «Зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше за журавля пойду!» Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один на другом свататься, да никак не женятся.
Сказки писателей вологодской области
Славянские поселения на территории современной Вологодской области известны с VI–VII веков. Через Белоозеро и сухонский бассейн новгородские дружины проникали далеко на северо-восток. К середине IX века северорусский город Белоозеро был уже одним из крупнейших экономических и культурных центров древней Руси. А в 1147 году, по сообщению «Вологодского летописца», на реку Вологду, «на великий лес» пришел киевский монах Герасим. На берегу он увидел церковь Воскресения, на Ленивой площадке – небольшой Торжок. Так дошло до нас первое известие о Вологде. В этом же веке возникают, Верховажский посад, Тотьма, Кубанское и другие поселения.
Вскоре после этой битвы Белозерье присоединилось к Москве. «Господин великий Новгород» терял обширные пространства от Вологды до Великого Устюга, владения Московского государства простирались все дальше на Север. Ликвидация феодальной раздробленности, возвышение Москвы, как политического, экономического и культурного центра Руси, вели к расцвету культурной жизни русского государства.
Бурные для своего времени события, разворачивавшиеся на древней вологодской земле, неотделимы от жизни всего русского народа, от его трудной борьбы за национальную независимость. Устная народная поэзия навсегда запечатлела и высокое патриотическое сознание вологжан, черпавших силу в борьбе за единство русского государства, и будничную жизнь народа с ее повседневными радостями и горестями.
Наряду с древними сказками о животных и волшебными сказочными повествованиями, величественными песенными хороводами и свадебными обрядами, тесно связанными с особенностями быта народа, широкое распространение на Севере получает русский былевой эпос, особенно былины нов городского цикла (о Ставре Годиновиче, Садке Богатом госте, Василии Буслаеве). Их возникновение исследователи относят еще к XII веку.
Богатые традиции устной народной поэзии оказывают сильнейшее влияние на памятники древне русской литературы. Многие из них своим возникновением связаны с северными землями древ ней Руси. Еще в «Молении Даниила Заточника», донесшего с диких берегов озера Лача горький плач несчастного холопа, за витиевато-риторическим стилем ощущается прочная связь с устной поэзией народа («Кому Переславль, а мне гореславль; кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому Белоозеро, а мне чернее смолы; кому Лаче озеро, а мне много плача исполнено, зане часть моя не прорасте в нем»). О богатстве традиций народной поэзии древней Руси свидетельствует и поэтическая повесть «Задонщина», древнейший список которой найден в Кирилло-Белозерском монастыре и относится к 1470 году.
Великопермская, Кирилло-Белозерская, Вологодско-Пермская, Устюженский Летописный Свод и другие летописи, известные в списках XVI века, возникших в период бурного развития Вологодского края, опираются и на сказания, бытовавшие в устном виде. Широко отражается в народных песнях этого времени и борьба русского народа с польско-литовским нашествием. Вологжане приняли активное участие в изгнании интервентов, жестоко разорявших древние города и села Вологодского края.
Значительная часть вологодских земель становится в XVII веке вотчиной крупных помещиков. Расширение торговых связей края вело к росту купечества, процветанию торговых городов. Эксплуатация крестьян крупными помещиками, а городской бедноты – богатым купечеством, злоупотребления воеводами властью – все это привело к ряду восстаний.. Городские восстания вспыхнули в Великом Устюге и Сольвычегодске. Восстание бедноты в Тотьме было поддержано крестьянами. В Вологодских краях появились «прелестные письма» Степана Разина. Один из его соратников пробился с большим отрядом в Тотьму. В условиях борьбы за землю и свободу подтачивались устоявшиеся традиции старины, книжная литература испытывала все большее влияние устной поэзии, особенно тех ее произведений, в которых отражалась оппозиция крестьянства господствующим классам.26 апр 2011 в 13:03
Талантливые народные певцы – скоморохи, гонимые за острый язык светскими властями и церковью, бежали на Север, оседали и в вологодских краях.
«В северных деревнях гудели дудки и самодельные, похожие на грушу, трехструнные «гудки», по которым водили луковидным смычком. Плясали и кобенились скоморохи. Они глумились над боярами кособрюхими и высмеивали их лихоимство и спесь, разыгрывали потешные представления, показывая, как челобитчики несут боярам в лукошках «посулы», потешные сцены, вроде «Шемякина суда» 5 [5 А. Морозов. Ломоносов и культура русского Севера. – «Север», Архангельск, 1949, № 11, с. 219.]
В древнерусской литературе XVII века преобладают повести бытового и сатирического характера. Среди них – знаменитая «Повесть о Савве, Грудцыне», озаглавленная в одном из списков «Повесть зело правдивна быть в древние времена и лета, града Великого Устюга купца Фомы Грудцына, о сыне его Савве. » Известны русскому Северу и выдающиеся сатирические произведения, связанные с традициями устной поэзии, повесть о Шемякином суде, повесть о Ерше Ершовиче. В сатирическом памфлете «Праздник кабацких ярыжек» или «Служба кабаку», возникшем в Прилуцком монастыре, что под Великим Устюгом, обильно используются традиционные элементы устной поэзии, репертуар певцов-скоморохов. Текст этого памятника пересыпан народными шутками, прибаутками, небылицами, пословицами и поговорками («Слава отцу Иванцу и сыну Селиванцу», «Под лесом видят, а под носом не слышат», «Жити весело, а ести нечего», «Дом потешен, голодом изнавешон, робята пищат, ести хотят, а мы, право, божимся, что и сами не етчи ложимся») 6 [6 Подробнее см.: В. П. Адрианова-Перетц. У истоков русской сатиры. в кн.: Русская демократическая сатира XVII века. М.-Л., изд-во АН СССР, 1954, с. 137–187.]
Древнерусская литература в своем развитии опиралась на вековые устно-поэтические традиции народа. Корни народного словесного искусства уходят в глубь веков. Установить основные этапы его чрезвычайно трудно и потому, что устные произведения дошли до нас в форме, трансформированной позднейшими наслоениями.
Особую ценность представляют рукописные сборники XVII–XVIII веков, сохранившие самые ранние записи образцов народной поэзии. В Кадникове обнаружен большой рукописный сборник пословиц и поговорок XVII века. 7 [7 П. Симони.
В Кадникове обнаружен большой рукописный сборник пословиц и поговорок XVII века. 7 [7 П. Симони. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII–XIX столетий. Спб., 1899. с. 163–216 (Сборник ОРЯС АН, т. LXVI, № 7). Рукопись из г. Кадникова от Н. Г. Ордина получена в 1879 г. и хранится в БАН.] П. Дилакторский «из рук простонародья» добыл тетрадь со списком народных драм «Шапошник и мужик», «Могильник и кобыляк», относящихся ко второй половине XVIII века. 8 [8 Bc. Миллер. Новый интерлюдий XVIII века. Известия ОРЯС АН, т. V, кн. 3. Спб., 1900, с. 747–767] Им же была опубликована «Ведомость о масленичном поведении 1762 года». 9 [9 П. Дилакторский. Ведомость о масленичном поведении.– «Этнографическое обозрение», 1895, кн. 24, № 1, с 118–122.] Акад. В. И. Срезневский приобрел в Великом Устюге нотный песенник конца XVIII века, в который вошли лирические, масленичные, свадебные, хороводные подблюдные и другие народные песни. В другом сборнике песен и романсов конца XVIII века, приобретенном в Кадниковском уезде, – известные по поздним записям и широко распространенные в крае лирические и свадебные песни «Ах, как я молода», «Ах, по мосту, мосту», «Весел я весел сегодняшний день», «Во лузях», «Ты крапива, крапива жигучая». Вошли в эти сборники и песни «Во Кистрине было городе», «Ныне времечко военно. 10 [10 В. И. Срезневскиq. Отчет отделению русского языка и словесности АН о поездке в Олонецкую, Вологодскую и Пермскую губернии (июнь 1902 года). Спб, 1904, с. 206–207, 225–230, 260 и др.] Положительные результаты дали и другие экспедиции, предпринятые с целью разыскания древних рукописей, включающих в себя и образцы народной поэзии. Даже эти скупые сведения дают представление о широком бытовании устной поэзии в XVII–XVIII веках на территории Вологодского края.
И. А. Морозов, И. О. Слепцова. Праздничная культура Вологодского края. – Ч. I: Святки и Масленица. – Л., 1993
Народное устно-поэтическое творчество Вологодского края: сказки, песни, частушки:
В 2-х т. / Сост. В. В. Гура. – Архангельск, 1965
Сказки, песни, частушки // Народное устно-поэтическое творчество Вологодского края: сказки, песни, частушки: В 2-х т. / Сост. В. В. Гура. – Архангельск, 1965
Песни, сказки, пословицы и поговорки, собранные Н. А. Иваницким в Вологодской губернии. – Вологда, 1960
Чин пещного действия, совершавшийся в древности в Софийском соборе
// С. Непеин. Вологда прежде и теперь. – Вологда, 1906
Жили старик со старухой в лесной избушке. Зимой делать было нечего. Старуха и говорит:
-Сходи, старик, в лес, отруби ногу у медведя. Я буду шерстку прясть, кость грызти и на шкуре сидеть.
Старик встал поутру рано и пошел в лес. Видит: под кустом лежит медведь, спит. Подкрался к нему и отрубил лапу. Пришел домой и говорит:
— На тебе, старуха!
Она сидит на шкуре, шерсть прядет и кость грызет. Видит, что идет медведь на липовой ноге. Идет медведь и поет:
Скрипи, скрипи нога,
Скрипи, липовая и березовая.
По селам спят, по деревням лежат,
Одна баба не спит,
На моей коже сидит,
Мое мясо грызет,
Мою шерстку прядет,
А я иду и бабу съем, съем.
Баба испугалась, залезла на печь, с печи на полати. Старик взял топор, старуха кочергу и ждут. Медведь опять поет:
Скрипи, скрипи нога,
Скрипи, липовая и березовая.
По селам спят, по деревням лежат.
Одна баба не спит,
На моей коже сидит,
Мое мясо грызет,
Мою шерстку прядет,
А я иду и бабу съем, съем.
Жил-был старик, у него были кот да петух. Старик ушел в лес на работу, кот унес ему есть, а петуха оставили стеречь дом. На ту пору пришла лиса.
Кикереку-петушок,
Золотой гребешок!
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку.
Кикереку-петушок,
Золотой гребешок,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку,
Дам и зернышков.
Петух лишь выглянул в окошко, как лиса его в когти. Петух лихим матом закричал:
— Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по крутым бережкам, по высоким горам; хочет лиса меня съести и косточек не оставити!
Кот в поле услыхал, пустился в догоню, петуха отбил и домой принес:
— Не говорил ли я тебе: не открывай окошка, не выглядывай в окошко, съест тебя лиса и косточек не оставит. Мотри, слушай меня! Мы завтра дальше пойдем.
Вот опять старик на работе, а кот ему хлеба унес. Лиса подкралась под окошко, ту же песенку запела; три раза пропела, а петух все молчал. Лиса говорит:
— Что это, уж ныне Петя нем стал!
— Нет, лиса, не обманешь меня, не выгляну в окошко.
Лиса побросала в окошко горошку и пшенички и снова запела:
Жил старик и старуха. У старика, у старухи не было ни сына, ни дочери, был только один серый кот. Он их поил-кормил, носил им кунок и белок, рябчиков, тетеревей и всяких зверьков. Сделался стар серый кот. Старуха и говорит старику:
-Из чего мы, старик, кота держим? Только даром на печи место занял!
-Да куда его девать-то?
-Посади в котомку и отнеси в остров; пускай там свою жизнь решит.
Старик отнес. Кот остался в острову, день голодал, другой и третий и стал плакать. Идет лиса и спросила кота:
-О чем ты плачешь, Котай Иванович?
-Ах, лиса, как мне не плакать? Жил я у старика и старухи,
поил-кормил их, стал стар, они и прогнали меня.
А лиса говорит:
-Давай, Котай Иванович, женимся!
-Куды мне жениться! Только бы свою голову пропитать; а у тебя, чай, детки есть, кормить-поить надо.
— Ничего, как-нибудь прокормимся!
(Записано X. А. Шерстеньковой в 1914 г. от М. С. Дранишниковой, 80 лет, в д. Сидорово Вельского уезда. Печатется по рукописи: Архив Государственного литературного музея, 4385/ 2а.)
ТЕРЕМОК ВОШКИ И БЛОШКИ.
Бывало да живало, жила старушка; у ней завелись вошь-поползушка и блоха-поскакушка. Старуха их прогнала, они пошли в поле. Шли, шли, нашли конёвью голову и говорят:
Экой терем, экой хороший!
Окна колодны, лавки дородны!
Кто в этом терему живёт?
Никто не сказался. Они поползли туда и стали жить. Идёт заяц и говорит:
Экой терем, экой хороший!
Окна колодны, лавки дородны!
Кто в этом терему живёт?
Экой терем, экой хороший!
Окна колодны, лавки дородны!
Кто в этом терему живёт?
Экой терем, экой хороший!
Окна колодны, лавки дородны!
Кто в этом терему живёт?
КАК БЫК СТРОИЛ ИЗБУ.
Жил старик да старуха со своим сыном. Вздумали они женить сына. Было у них скота много. Старик и говорит:
— Давай, старуха, заколем к свадьбе быка.
лезла, а как не стало, вдруг стали ее палить огнем. Не успела до половины залезть, пришлось свалиться, она упала на землю. Встала и пришла домой, наломала мелко хлеба, опять пошла. Пришла и полезла она на столб и стала кидать хлеб. И долезла она до верху и схватила своего жениха. Когда она схватила, вдруг очутились они на земле и пошли к отцу и к матери. Когда пришли, стали собирать свадьбу. И собралась свадьба, их обвенчали, и стали жить да поживать да добра наживать и живут больно хорошо.
(Записано в конце Х1Х-начале XX в. А. Д. Неуступовым в Кадниковском уезде. Печатается по рукописи: Архив Географического общества СССР. Разряд 7. Оп.1,№ 80-а. А. Д. Неуступов. Народные сказки Кадниковского уезда. Тетрадь П. С. 20. Сказка 16.)
ПЕТУШОК ДА КУТЮШКА.
Бывало да живало, был петушок да кутюшка. Ходили на улице. Петушок склюнул бобово зернышко и подавился. Пошла кутюшка к реке просить водицы. Сказала:
Река сказала: «Пойди к липе, принеси листу!» Пошла кутюшка к липе и сказала:
Липа сказала: «Пойди к угольщикам, принеси угольков!» Пришла кутюшка к угольщикам и сказала:
Косцы дали сена. Пришла к корове.
Жил-был петушок да курочка. И пошли они в загородку погулять да бобиков поклевать. Склюнул петушок первый-от бобик да и подавился. И посылает курочку на речку за водицей:
Не помню, в каком было царстве и в каком государстве, на ровном месте, как на бороне, жили-были в одной деревне старик со старухою. У них, кроме всякого добра, были жерновки и петушок. Жерновки сами мололи им муку, а петушок стерёг всё их добро и служил им.
К старику и старухе часто ездил один барин, который закупал у них муку. Узнав об этих жерновках, барин захотел их купить у старика, но как старик не продавал жерновки ни за какие деньги, то барин решился украсть их.