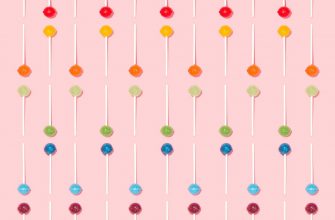Сказки русского севера писахов
© Писахов С. Г., наследники, 2016
© Бахчина А. С., иллюстрации, 2016
© Оформление, издательство «БХВ-Петербург», 2016
Степан Григорьевич Писахов
Архангельский край – это обширные холодные равнины, которые омываются реками Онегой и Северной Двиной и водами Белого (Студёного, как его называли раньше) моря. Это север России.
Жителей этого сурового края называли поморами. Занимались они рыбным и зверобойным промыслом, земледелием и скотоводством. В Белом море ловили поморы треску, сёмгу, палтуса и сельдь, а в реках – сига, налима и щуку. Неудивительно, что действие поморских сказок почти всегда связано с морем.
Один из самых известных сказочников Архангельского края – Степан Григорьевич Писахов. Посмотри на его портрет. Он был похож на сказочного персонажа, старичка-боровичка, будто вышедшего на городскую улицу из леса. Из его сказок ты узнаешь, как жили архангельские крестьяне, как ходили в море, ловили рыбу, катались на льдинах, сушили северное сияние, как медведи торговали на ярмарках молоком, а пингвины приезжали на заработки и ходили по улицам с шарманкой.
А если ты захочешь проверить, что правда, а что выдумка, поезжай в старинный город Архангельск – столицу края, поброди по улицам, посети музей сказочника, не забудь заехать в Малые Корелы – музей под открытым небом, где собраны старинные дома, колокольни, церкви со всего края. Обязательно попробуй местное лакомство – козули, похожее на пряник. А на память привези из путешествия необычные глиняные игрушки, которые испокон веков делают в старинном городе Каргополь.
Может быть, речь героев этих сказок покажется тебе непривычной, но именно так говорили жители края раньше. И мы бережно сохранили эту особенность в тексте.
Сочинять и рассказывать сказки я начал давно, записывал редко.
Мои деды и бабка со стороны матери родом из Пинежского района. Мой дед был сказочник. Звали его сказочник Леонтий. Записывать сказки деда Леонтия никому в голову не приходило. Говорили о нём: большой выдумщик был, рассказывал всё к слову, всё к месту. На промысел деда Леонтия брали сказочником.
В плохую погоду набивались в промысловую избушку. В тесноте да в темноте: светила коптилка в плошке с звериным салом. Книг с собой не брали. Про радио и знати не было. Начинает сказочник сказку длинную или бывальщину с небывальщиной заведёт. Говорит долго, остановится, спросит:
– Други-товарищи, спите ли?
Кто-нибудь сонным голосом отзовётся:
– Нет, ещё не спим, сказывай.
Сказочник дальше плетёт сказку. Коли никто голоса не подаст, сказочник мог спать. Сказочник получал два пая: один за промысел, другой за сказки. Я не застал деда Леонтия и не слыхал его сказок. С детства я был среди богатого северного словотворчества. В работе над сказками память восстанавливает отдельные фразы, поговорки, слова. Например:
– Какой ты горячий, тебя тронуть – руки обожжёшь. Девица, гостья из Пинеги, рассказывала о своём житье:
– Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь!
При встрече старуха спросила:
– Што тебя давно не видно, ни в сноп, ни в горсть?
Спрашивали меня, откуда беру темы для сказок? Ответ прост: ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут.
Сказки пишу часто с натуры, почти с натуры. Многое помнится и многое просится в сказку. Долго перечислять, что дало ту или иную сказку. Скажу к примеру. Один заезжий спросил, с какого года я живу в Архангельске. Секрет не велик. Я сказал:
– Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске?
Что-то небрежно-снисходительное было в тоне, в вопросе. Я в тон заезжему дал ответ:
– Раньше стоял один столб, на столбе доска с надписью: «Архангельск». Народ ютился кругом столба. Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в звериные шкуры завёртывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз – дело постороннее. На ночь шкуру медведю отдавал…
Можно было сказку сплести. А заезжий готов верить. Он попал в «дикий север». Ему хотелось полярных впечатлений.
Оставил я заезжего додумывать: каким был город без домов.
С Сеней Малиной я познакомился в 1928 году. Жил Малина в деревне Уйме, в 18 километрах от города. Это была единственная встреча. Старик рассказывал о своём тяжёлом детстве. На прощанье рассказал, как он с дедом «на корабле через Карпаты ездил» и «как собака Розка волков ловила». Умер Малина, кажется, в том же 1928 году. Чтя память безвестных северных сказителей – моих сородичей и земляков, – я свои сказки веду от имени Сени Малины.
Не любо – не слушай…
Про наш Архангельской край столько всякой неправды да напраслины говорят, что я придумал сказать всё как есть у нас.
Всю сушшую правду. Что ни скажу, всё – правда.
Кругом все свои – земляки, соврать не дадут.
К примеру, Двина – в узком месте тридцать пять вёрст[2], а в широком – шире моря. А ездим по ней на льдинах вечных. У нас и леденики есть. Таки люди, которы ледяным промыслом живут. Льдины с моря гонят да давают в прокат, кому желательно.
Запасливы стары старухи в вечных льдинах проруби делали. Сколь годов держится прорубь!
Весной, чтобы занапрасно льдина с прорубью не таяла, её на погребицу затаскивали – квас, пиво студили.
В стары годы девкам в придано давали перьвым делом – вечну льдину, вторым делом – лисью шубу, чтобы было на чём да в чём за реку в гости ездить.
Летом к нам много народа приезжат. Вот придут к леденику да торговаться учнут, чтобы дал льдину полутче, а взял по три копейки с человека, а трамвай пятнадцать копеек.
Ну, леденик ничего, для виду согласен. Подсунет дохлу льдину – стару, иглисту, чуть живу (льдины хошь и вечны, да и им век приходит).
Ну, приезжи от берега отъедут вёрст с десяток, тоже как путевы, песню заведут, а робята уж караулят (на то дельны, не первоучебны). Крепкой льдиной толконут, стара-то и сыпаться начнёт. Приезжи завизжат: «Ой, тонем, ой, спасайте!»
Ну, робята сейчас подъедут на крепких льдинах, обступят.
– По целковому с рыла, а то вон и медведь плывёт, да и моржей напустим!
А мишки с моржами, вроде как на жалованье али на по-деншшине, – своё дело знают. Уж и плывут. Ну, приезжи с перепугу платят по целковому. Впредь не торгуйся.
А мы сами-то хорошей компанией наймём льдину, сначала пешней[3] попробуем, сколько ей годов узнам. Коли больше ста – и не возьмём. Коли сотни нет – значит, молода и гожа. Парус для скорости поставим. А от солнца зонтики растопырим да вертим кругом, чтобы не загореть. У нас летом солнце-то не закатывается: ему на одном-то месте стоять скучно, ну, оно и крутит по небу. В сутки разов пятьдесят обернётся, а коли погода хороша да поветерь, то и семьдесят. Ну, коли дождь да мокресть, дак отдыхат, стоит.
Этот текст был написан автором к изданию 1959 года.
Сказки. Рассказы. Стихи
Сказки Степана Писахова для детей.Список произведений.Краткая биография Писахова.
Степан Писахов. Биография
Степан Григорьевич Писахов (1879—1960) — русский художник, писатель, этнограф, сказочник, преподаватель живописи. Родился 13 (25) октября 1879 года в Архангельске. Отец пытался приучить мальчика к ювелирным и гравёрным делам. Когда Степан Писахов потянулся к живописи, это не понравилось отцу. В гимназию Писахов не попал (по возрасту), окончил всего лишь городское училище. После окончания городского училища в 1899 году он устремляется вначале на Соловки, потом поступил на лесозавод рубщиком потом — Казань, неудачная попытка поступить в художественную школу. Писахов уезжает в Петербург и поступает в художественное училище барона Штиглица. Преподаватели высоко оценили дарование Писахова, и он несколько лет занимался живописью под руководством академика Александра Новоскольцева. В 1905 г., не закончив курс обучения, Писахов вместе с большой группой студентов уходит из училища.
Он обращается к поиску «Божией правды», сначала у святынь Новгорода, затем — на арктическом Севере, Новая Земля, становище Малые Кармакулы. Осенью 1905 года Степан Писахов попал в Иерусалим, остался без гроша. Потом Египет. Три зимы после путешествия на юг 1907—1909 гг. Писахов провёл в Петербурге в мастерской художника Якова Гольдблата. Летом — Карское море, Печора, Пинега и Белое море. Самыми памятными поездками Писахов считал плавание в 1906 г. по Карскому морю на корабле «Св. Фока», участие в 1914 г. в поисках Георгия Седова, исследование земли саамов, присутствие при основании первых станций радиотелеграфа на Югорском Шаре, Маре-Сале и острове Вайгач. Всё увиденное Писахов запечатлел в пейзажах, которые выставлялись в Архангельске, Петербурге, Москве, Берлине, Риме. Очень любил бывать на Кий острове. Первая мировая война прервала художественную деятельность Писахова. В 1915 г. он был призван в армию. Впервые записывать свои рассказы Писахов стал ещё до революции. Теперь Писахов решил попробовать свои силы в жанре очерков. Основным заработком Писахова до войны и после войны были уроки рисования. Известность С. Г. Писахов снискал как автор изумительных, поистине неповторимых сказок.
Перу Степана Григорьевича принадлежат также интересные путевые очерки, рассказывающие об освоении Арктики, об экспедициях в Заполярье, заметки, дневники, опубликованные в большинстве своём после смерти писателя.
Сказки Степана Григорьевича Писахова переиздавались неоднократно. Они выходили отдельными сборниками в Архангельске и в Москве. Последнее наиболее полное издание Писахова вышло ещё при жизни писателя в 1959 году.
—————————————————
Степан Писахов. Сказки.
Читаем бесплатно онлайн
Сказки русского севера писахов
Сочинять и рассказывать сказки я начал давно, записывал редко.
Мои деды и бабка со стороны матери родом из Пинеж-ского района. Мой дед был сказочник. Звали его сказочник Леонтий. Записывать сказки деда Леонтия никому в голову не приходило. Говорили о нем: большой выдумщик был, рассказывал все к слову, все к месту. На промысел деда Леонтия брали сказочником.
В плохую погоду набивались в промысловую избушку. В тесноте да в темноте: светила коптилка в плошке с звериным салом. Книг с собой не брали. Про радио и знати не было. Начинает сказочник сказку длинную или бывальщину с небывальщиной заведет. Говорит долго, остановится, спросит: – Други-товарищи, спите ли? Кто-нибудь сонным голосом отзовется:
– Нет, еще не спим, сказывай.
Сказочник дальше плетет сказку. Коли никто голоса неподаст, сказочник мог спать. Сказочник получал два пая: один за промысел, другой за сказки. Я не застал деда Леонтия и не слыхал его сказок. С детства я был среди богатого северного словотворчества. В работе над сказками память восстанавливает отдельные фразы, поговорки, слова. Например:
– Какой ты горячий, тебя тронуть – руки обожжешь.
Девица, гостья из Пинеги, рассказывала о своем житье:
– Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь!
При встрече старуха спросила:
– Што тебя давно не видно, ни в сноп, ни в горсть?
Спрашивали меня, откуда беру темы для сказок? Ответ прост:
Ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут.
Сказки пишу часто с натуры, почти с натуры. Многое помнится и многое просится в сказку. Долго перечислять, что дало ту или иную сказку. Скажу к примеру. Один заезжий спросил, с какого года я живу в Архангельске. Секрет не велик. Я сказал: – С 1879 года.
– Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске?
Что-то небрежно-снисходительное было в тоне, в вопросе. Я в тон заезжему дал ответ:
– Раньше стоял один столб, на столбе доска с надписью: «Архангельск». Народ ютился кругом столба.
Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в звериные шкуры завертывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз – дело постороннее. На ночь шкуру медведю отдавал…
Можно было сказку сплести. А заезжий готов верить. Он попал в «дикий север». Ему хотелось полярных впечатлений.
Оставил я заезжего додумывать: каким был город без домов.
В 1924 году в сборнике «На Северной Двине» напечатана моя первая сказка «Не любо – не слушай. Морожены песни».
С Сеней Малиной я познакомился в 1928 году. Жил Малина в деревне Уйме, в 18 километрах от города. Это была единственная встреча. Старик рассказывал о своем тяжелом детстве. На прощанье рассказал, как он с дедом «на корабле через Карпаты ездил» и «как собака Розка волков ловила». Умер Малина, кажется, в том же 1928 году. Чтя память безвестных северных сказителей – моих сородичей и земляков, – я свои сказки веду от имени Сени Малины,
Сказки русского севера писахов
Поморские были и сказания
Еще недавно жил среди нас писатель, который старательно реставрировал полувыцветшие страницы из большой историко-культурной летописи России.
И мастер, и мастерство его были особенными.
Всю свою прозу и поэзию он знал наизусть. Мог рассказывать и петь произведения, как бы листая невидимую книгу, слово в слово вторя печатному. Сказывание, впрочем, было не просто воспроизведением, а самим процессом творчества. И если возникали «разночтения» с опубликованными текстами, это не память ошибалась: при повторении старого хотелось пошлифовать, поправить уже отлитое типографами. Так рождались обновленные варианты известных произведений. Словно творил не писатель, а певец былин или старинный сказочник.
В даровитом, искушенном мастере единосущно жили сказитель и литератор. И пожалуй, всего более оба ценили слово говоримое. Когда приходилось сплавлять изустную молву и письменный слог, речь главенствовала над книжностью. Даже когда воспроизводился архаический стиль древней книги, автор, по собственному его признанию, и тут избегал «излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи».
Отдал он этому труду ни много ни мало — целую жизнь.
Имя писателя: Борис Викторович Шергин. Годы его жизни: 1896—1973.
На Белом море издревле жили потомки новгородцев — поморы.
Поморское племя ратоборствовало с Океаном и Севером. Оно сумело противопоставить слепой стихии свой разум, волю, силу товарищества, культурные традиции.
Характер и культура поморов ковались борьбой за жизнь, были неразделимы и оттого приобрели значение высокое, общенациональное: они пособляли утверждать русское имя на суровых берегах моря Мерзлого, осваивать земли каменно-неплодные, учили мужеству, запасали опыт.
Борис Шергин постигал этот характер и культуру Поморья с детства: он жил рядом с именитыми корабельными плотниками, капитанами, лоцманами, зверобоями-промышленниками, присматривался к их обычаям, прислушивался к разговорам.
В доме с маленькими комнатками-каютками, где на полках стояли сделанные отцом деревянные модели парусников, Боря Шергин с жаром рисовал виденные в порту рыбацкие, торговые, военные суда. С тщанием знатока вырисовывал детали оснастки.
Страсть разжигалась живописью: в каждом городском доме висели сработанные соловецкими богомазами картины с изображением кораблей, во флотском экипаже створки шкафов были расписаны изображениями верфей, морскими баталиями.
Становясь постарше, Шергин срисовывал орнаменты, заставки старинных книг, учился писать иконы в поморском стиле, расписывал утварь, копировал особый вид рукописного почерка — поморскую вязь.
В отроческие годы Шергину хочется успеть во всем. И, вслед за талантливыми сказителями архангелогородцем Анкудиновым и заостровской крестьянкой Бугаевой (она подолгу гостила у Шергиных, становясь их «домоправительницей»), он начал исполнять «легендарные истории, сказки, былины», записывать их печатными буквами в тетради, сшитые «в формате книг».
Едва ли мог себе представить гимназист Шергин всю серьезность этого своего увлечения — ведь гораздо больше времени и сил отдавалось рисованию. Приехавший в. Архангельск П. И. Субботин, директор художественной школы-мастерской в Подмосковье, педагог, человек большой культуры, увидев рисунки Шергина, советует ему бросить гимназию. Смущенный похвалами юноша отправляется летом 1911 года в Москву, в Строгановское училище, показать свои работы и слышит слово одобрения. После двух лет колебаний выбор сделан. С 1913 года Шергин становится студентом-строгановцем. Но, овладевая профессией художника, Шергин не может преодолеть влечение к северному слову. Молодой архангелогородец в Москве выступал на утренниках словесности, сказывал сказки Двинской земли.
И течение его профессиональной жизни изначально устремляется по руслам двух искусств, которые временами будут сливаться: три его книги оформлены им собственноручно. А тут еще археографический и библиофильский азарт Шергина, все расширяющееся стремление освоить возможно больше сведений об истории поморского Севера…
21 ноября 1915 года газета «Архангельск» (№ 260) опубликует «Письмо из Москвы» под названием «Отходящая красота» с описанием концерта пинежской былинщицы М. Д. Кривополеновой, подписанное инициалами Б. Ш. Как говорится: «Первую песенку зардевшись спеть». Первое выступление девятнадцатилетнего Шергина в печати.
«Письмо» исполнено восхищения «художественностью натуры» неграмотной русской крестьянки (увидев в Третьяковской галерее «Богатырей» Васнецова, певица «тут же к каждому из них спела соответствующую былину»). «Письмо» славит Север, «обетованную Землю всех ценителей русской красоты».
Тогда же Шергин выступает рядом с Кривополеновой в Обществе любителей российской словесности, а по приглашению видного фольклориста Юрия Соколова своим пением иллюстрирует его лекции о народной поэзии в Московском университете. Репертуар Шергина — преимущественно баллады, сказки — пользуется успехом. Но личный успех — исполнитель прекрасно сознает это — частный эпизод огромного резонанса северной народной культуры в столицах, свидетелем которого становится студент художественного училища: в течение полутора десятилетий XX века в Петербурге и Москве происходит новое открытие «края непуганых птиц». Выходят книги М. М. Пришвина, А. П. Чапыгина, Н. А. Клюева. Труды фольклористов развертывают богатейшую картину жизни северного фольклора. Сборники былин, сказок, песен, записанных от Беломорья до Перми А. В. Марковым, А. Д. Григорьевым, Н. Е. Ончуковым, Д. К. Зелениным, братьями Б. М. и Ю. М. Соколовыми, будут позднее названы классическими.
Через год Шергин, хорошо известный в кругах ученых — любителей «живой старины», командируется Академией наук в Архангельскую и смежные губернии для исследования местных говоров и записи произведений фольклора. Эта работа вновь окунает его в родную словесную стихию.
После установления Советской власти Шергин два года заведует художественной частью архангельской ремесленной мастерской, работавшей в холмогорской технике резьбы по кости. На основе поморских орнаментов создает для мастеров новые образцы. Вновь появляется вместе с Кривополеновой на эстраде в летних архангельских концертах 1921 года.
Его знают, ему горячо симпатизируют любители народной северной старины, удивленные обширностью эрудиции молодого человека (и книжность, и живопись, и история!), покоренные его певческим мастерством. Шергин встречается с маляром В. Ф. Кулаковым, который «избушку свою, и чердак, и подполье, и хлев, и поветь — все разными редкостями захламостил». Этот чудак, не заслуживший «во всю жизнь» до Октября «ничего, кроме ругани да смеху», — побывал у Ленина и удостоился похвалы вождя за то, что опередил с идеей музея народных промыслов «ученых профессоров». Среди редкостей Кулакова Шергин находит сборник поморского письма «Малый Виноградец», из которого делает извлечения. Подобные творческие заготовки — на много лет вперед — он делает из новгородских, псковских хроник, беломорских «морских урядников», лоций XVIII века, из записных тетрадей шкиперов, альбомов стихов, песенников.
Земляки станут привозить Шергину заветные «стогодовалые» книги с Севера и из Сибири в Москву, куда Шергин переезжает на жительство в 1922 году.
Около девяти лет Шергин в должности «научного работника первого разряда» Института Детского чтения Наркомпроса, а фактически — артистом пять дней в неделю появляется в разных аудиториях, пропагандируя северный фольклор.
Часть репертуара отражает вышедшая в 1924 году первая его книга — сборник старин «У Архангельского города, у корабельного пристанища», которая знакомит с мелодиями, напетыми матерью писателя, подлинными народнопоэтическими произведениями.
Степан Писахов
Сочинять и рассказывать сказки я начал давно, записывал редко.
Мои деды и бабка со стороны матери родом из Пинеж-ского района. Мой дед был сказочник. Звали его сказочник Леонтий. Записывать сказки деда Леонтия никому в голову не приходило. Говорили о нем: большой выдумщик был, рассказывал все к слову, все к месту. На промысел деда Леонтия брали сказочником.
В плохую погоду набивались в промысловую избушку. В тесноте да в темноте: светила коптилка в плошке с звериным салом. Книг с собой не брали. Про радио и знати не было. Начинает сказочник сказку длинную или бывальщину с небывальщиной заведет. Говорит долго, остановится, спросит: – Други-товарищи, спите ли? Кто-нибудь сонным голосом отзовется:
– Нет, еще не спим, сказывай.
Сказочник дальше плетет сказку. Коли никто голоса неподаст, сказочник мог спать. Сказочник получал два пая: один за промысел, другой за сказки. Я не застал деда Леонтия и не слыхал его сказок. С детства я был среди богатого северного словотворчества. В работе над сказками память восстанавливает отдельные фразы, поговорки, слова. Например:
– Какой ты горячий, тебя тронуть – руки обожжешь.
Девица, гостья из Пинеги, рассказывала о своем житье:
– Утресь маменька меня будит, а я сплю-тороплюсь!
При встрече старуха спросила:
– Што тебя давно не видно, ни в сноп, ни в горсть?
Спрашивали меня, откуда беру темы для сказок? Ответ прост:
Ведь рифмы запросто со мной живут, две придут сами, третью приведут.
Сказки пишу часто с натуры, почти с натуры. Многое помнится и многое просится в сказку. Долго перечислять, что дало ту или иную сказку. Скажу к примеру. Один заезжий спросил, с какого года я живу в Архангельске. Секрет не велик. Я сказал: – С 1879 года.
– Скажите, сколько домов было раньше в Архангельске?
Что-то небрежно-снисходительное было в тоне, в вопросе. Я в тон заезжему дал ответ:
– Раньше стоял один столб, на столбе доска с надписью: «Архангельск». Народ ютился кругом столба.
Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в звериные шкуры завертывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз – дело постороннее. На ночь шкуру медведю отдавал…
Можно было сказку сплести. А заезжий готов верить. Он попал в «дикий север». Ему хотелось полярных впечатлений.
Оставил я заезжего додумывать: каким был город без домов.
В 1924 году в сборнике «На Северной Двине» напечатана моя первая сказка «Не любо – не слушай. Морожены песни».
С Сеней Малиной я познакомился в 1928 году. Жил Малина в деревне Уйме, в 18 километрах от города. Это была единственная встреча. Старик рассказывал о своем тяжелом детстве. На прощанье рассказал, как он с дедом «на корабле через Карпаты ездил» и «как собака Розка волков ловила». Умер Малина, кажется, в том же 1928 году. Чтя память безвестных северных сказителей – моих сородичей и земляков, – я свои сказки веду от имени Сени Малины,
Сказки
Не любо – не слушай…
Северно сияние
У зори у зореньки много ясных звезд,
А в деревне Уйме им и счету нет.