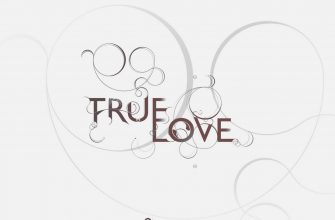«Хотелось поговорить о молчащем поколении»
Фото: Александр Богачев / Коммерсантъ
— После выхода «Зулейха открывает глаза» — о раскулаченных татарских крестьянах — вас назвали новым национальным автором. Почему от знакомых вам реалий вы перешли к теме советских немцев в Поволжье? Сыграло ли роль то, что вы по первому образованию — преподаватель немецкого языка и учились в Германии?
— Я себе позволила — после долгих сомнений — поразмышлять о ментальности советских немцев. Я действительно сомневалась, имею ли я право, потому что это не моя родина, а лишь выученный язык, выученные знания о другой культуре. Этический момент был очень важен. В тексте главный герой, поволжский немец, учитель Якоб Иванович Бах пишет этнографические заметки, например о чувстве «большой реки», которая есть в теле каждого волжанина, или о важнейших мифах, определявших сознание российских немцев. Все это не авторская придумка, а основано на реальных многочисленных текстах, написанных российскими немцами: сказки Фердинанда Вальберга, дневник Якоба Дитца, тексты и даже песни советских немцев, найденные в диссертациях.
— Роман поднимает тему роковой связи немцев и русских, заставляет искать параллели и пересечения…
— Меньше всего мне бы хотелось, чтобы роман подтолкнул читателя искать сходство и различие между народами. Наоборот, я старалась, чтобы текст рассказывал о российском немце, но при этом одновременно говорил бы просто о человеке. Для меня эта человеческая история была гораздо важнее, чем история национальная, несмотря на то, что роман пропитан отсылками к немецким фольклорным сюжетам и содержит достаточно большой этнографический пласт. Это история человека, живущего в ранние советские годы в Советской России. Хотелось порассуждать о взаимопонимании отцов и детей: тех отцов, которые родились до революции и на себе испытали все тяготы вот этих раннесоветских лет, и их детей, которые воспитывались уже на совсем других сказках… Поговорить о молчащем поколении (недаром мой герой большую часть романа нем), и насколько старшее поколение имеет право молчать даже из самых лучших побуждений, стремясь оградить своих детей от трагического опыта. Не приведет ли это в конечном итоге к тому, что эти дети окажутся потерянными, что связь между поколениями окажется разрушенной?
— Вы называете поволжских немцев «народом-сиротой». Почему так сложилось — в стране, где они прожили более 200 лет.
— «Дети мои! Принимаю вас под отеческое крыло наше!» — с таким призывом обратилась императрица Екатерина II не только к немцам, но ко всем, кто приезжал в Россию в XVIII веке.
Государство тогда брало на себя обязательства перед переселенцами, которые в погоне за счастьем проделывали огромный путь. Сегодня это даже трудно представить, но первые немецкие колонисты добирались почти год до места их расселения на Волге. В одной из первых версий романа у меня был достаточно большой кусок, описывающий, как предки Якоба Ивановича Баха переезжают из Германии, с берегов Эльбы, в Россию, это основано на реальных хрониках. Долгий мучительный путь — и «обратных билетов» не было. Немцы приезжали в эти степи и оказывались в совершенно чужом окружении, вокруг гигантское степное пространство, враждебное. Тяжелые природные условия, степняки-кочевники, которые могли нагрянуть, разграбить колонию, уведя скот и половину колонистов, продать их самих в рабство куда-нибудь в Бухару. Пугачев, который просто выжег, разграбил несколько колоний, опустошил. Это было тяжелое вживание в страну. После нескольких десятилетий борьбы за выживание, после ста лет жизни на Волге советские немцы, наконец, укоренились и стали жить обычной жизнью, но по-прежнему очень закрыто и обособленно от окружающих народов.
— Немецкие переселенцы так и не осознали себя частью большой страны?
— Они даже самих себя не воспринимали в качестве единой общности. Не говоря уже об отсутствии у них имперского сознания. Народ-сирота, который отщепился от исторической родины, разрозненных немецких княжеств. В советских переписях они продолжают называть себя по-разному: баварцами, голштинцами… Каждый из них принес в Россию свою локальную культуру, и в каждой колонии они пытались ее сохранить. Не было даже единого языка поволжских немцев, одно и то же слово там произносилось и писалось в разных колониях по-разному. Единый язык сформировался гораздо позже, к концу XIX века. Но начиная с Первой мировой войны они всегда становились заложниками отношений двух стран, и это заложничество определяло их жизнь.
— В романе очень важен немецкий язык…
— Меня на самом деле волновала эта проблема — как передать на письме диалект поволжских немцев. Главный герой предпочитал литературный немецкий, который я пыталась передать на письме с помощью такого же высоколитературного, достаточно сложного русского, с отсылками к немецкой поэзии и фольклору. А в случае с крестьянской речью я использовала, наоборот, просторечия. Что-то я переводила буквально — например, распространенное там ругательство «дракон»; они говорят «разорви тебя дракон», а не «черт» или «дьявол». У меня колонисты так и ругаются в книге. А в некоторых случаях мне приходилось опускать подробности. Например, настоящие колонисты в советское время использовали в обращении к незнакомым людям слова «товарищ» — для мужчин и «товарищина» — для женщин. К своим обращались по имени-отчеству, на русский манер. Это очень весело читать в немецких книгах, готическим текстом написанное, например «Якоб Кондратович». Но использовать это мне показалось излишним, чтобы не смущать русского читателя.
Роман состоит из трех кусков: есть основной романный текст — это мифологическая история. Есть эпилог двухстраничный, написанный документальным языком, где я хотела вытащить читателя из мира сказки в реальность, подчеркнуть, что все было по-настоящему, что история — не плод воображения автора. И есть комментарии, достаточно пространные, которые ссылаются на факты, уточняют цифры, дают большее представление о контексте и аллюзиях.
— После успеха вашего первого романа сложно было уйти от самоповторов?
— Для меня самым тяжелым в работе над романом были две вещи: избавиться от наследия «Зулейхи» и подобрать ключи к новому роману, найти новые творческие приемы, от структуры произведения до языка и метафорического ряда. Вплоть до грамматического времени, в котором написан роман. Конечно, я привыкла и мне комфортно писать в настоящем времени — это такая сценарная привычка, которая приближает читателя к происходящему, погружает его сразу в текст… Сначала я так и писала. Но получалось совсем не так здорово, как в «Зулейхе». Это тот самый случай, когда роман начинает жить самостоятельной жизнью, и уже не он тебе, а ты ему вынужден подчиняться.
От физмата к литературе
Визитная карточка 
Гузель Яхина родилась в Казани, училась в физико-математическом лицее, окончила Казанский государственный педагогический институт, факультет иностранных языков. С 1999 года живет в Москве, работала в сфере рекламы и маркетинга. Окончила сценарный факультет Московской школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», «Октябрь». В журнале «Сибирские огни» вышли главы ее дебютного романа «Зулейха открывает глаза» — о раскулачивании 1930-х годов. Книга вышла в Редакции Елены Шубиной в 2015 году. Автор романа стала лауреатом премий «Большая книга» и «Ясная Поляна».
«И я разрешила себе об этом написать»
Автор «Тотального диктанта 2018», обладатель литературной премии «Большая книга» Гузель Яхина откликнулась на приглашение «МНГ» посетить нашу редакцию и рассказать о нескольких годах работы над произведением, действие которого происходит в Республике немцев Поволжья.
Писательница Гузель Яхина в редакции «МНГ» / Любава Винокурова
Гузель Яхина
Родилась в Казани в 1977 году. Окончила Казанский государственный педагогический институт. С 1999 года живет в Москве. Окончила сценарный факультет Московской школы кино (2015). Дебютный роман «Зулейха открывает глаза» (2015), опубликованный «Редакцией Елены Шубиной» стал открытием литературного года, получил премии «Ясная Поляна» и «Большая книга» и вошел в финальный список «Русского Букера». Роман переводят на два десятка языков.
В одном из интервью после выхода в 2015-м вашего первого романа «Зулейха открывает глаза», вы говорили, что для вас не было выбора, о чем писать – тогда вы написали свою личную историю, прообразом главной героини которой стала ваша бабушка. Почему второй роман вы решили написать о немце Поволжья, шульмейстере в Гнадентале, одной из колоний?
Я по первому диплому – учитель немецкого языка. Мой дедушка был учителем немецкого. Первые немецкие слова я узнала от него. Была стипендиаткой DAAD (Германской службы академических обменов. – Ред.), работала в немецких компаниях. С немецким языком и немецкой культурой связана моя жизнь. Это с одной стороны. А с другой – Волга. Я человек Большой реки, выросла на Волге. В этом понятии – «поволжские немцы» – сошлись две составляющие моей жизни. Поэтому я задумала написать о них. Еще и в первом моем романе есть немецкий герой – Карл Вольфович Лейбе, профессор, гинеколог, который принимает роды у Зулейхи и играет важную роль и в ее жизни, и в жизни ее сына. Так что идея написать о немцах появилась уже давно, года три назад.
Роман «Дети мои» вышел в год 100-летия образования немецкой автономии на Волге. Это случайность?
Да, я начала писать роман практически сразу после того, как закончила «Зулейху». Были разные попытки зайти в историю – и сценарные, и литературные. Предугадать, что к концу 2017-го я сдам рукопись, а через полгода книга появится в свет, я не могла. Еще когда я училась в Московской школе кино, я написала дипломный сценарий, он назывался «Учитель немецкого». В нем рассказывалось, правда, о татарском мальчике, который попадает в семью поволжских немцев. Эту идею я и хотела развить в романе.
Отчасти так и получилось: один из героев романа – беспризорник Васька-киргиз – оказывается в доме шульмейстера Якоба Баха и его дочери Анче и остается жить с ними.
История сироты, выросшего в немецком окружении, появляется во второй половине романа. А вообще все, что я задумывала изначально, уместилось в три абзаца эпилога: я хотела написать роман о депортации, о том, как этот мальчик вырастает, потом уходит на войну. 8 мая 1945 года он встречает в Гнадентале на Эльбе. Потом возвращается, путешествует по Казахстану в поисках своего приемного отца, а вместо него находит его дочь. Берет ее замуж, и они остаются жить в Казахстане, в степи. Но все это в итоге упаковалось в эпилог.
Почему вы решили отойти от изначальной сюжетной линии?
Я много читала и о депортации, и о том, что было до нее. И мне показалось, что о депортации уже много написано, ничего нового я бы не смогла рассказать. И я решила писать о том, что было до нее, о том, о чем на самом деле мало кто знает. Мне захотелось показать то светлое, теплое, живое, что было в немецких селах на Волге до депортации. Хотя, конечно, тот факт, что события в романе происходят в преддверии 1941 года, накладывает свой отпечаток на восприятие романа.
Многие поволжские немцы, пережившие насильственное переселение в Сибирь и Казахстан, вспоминают о родине с ностальгией и рисуют часто идеализированную картинку, в которой почти всегда присутствует яблоневый сад, играющий и в вашем романе важную роль. Тем не менее он далек от идеализации жизни 20–30-х годов на Волге.
Стоит почитать серьезные исследования, чтобы понять: нет, не все было хорошо. Маленькая Республика немцев Поволжья все время была задействована в большой политике, являясь фактически заложницей отношений России и Германии. К тому же Поволжье было регионом, пережившим дважды страшный голод, сплошную коллективизацию. Некоторые села были под угрозой затопления. Было много непростых страниц в истории Немреспублики. Мне хотелось в романе дать объемную картинку, сохранить баланс между светлым, ярким, занимательным и трагическим, ужасным, страшным.
В романе хорошо отражена культура российских немцев. Откуда вы почерпнули такие знания об истории народа, его фольклоре, быте, ведь вы выросли в другой культуре?
Я с самого начала понимала: это чужая культура, и язык немецкий для меня все же – выученный, и все знания о немцах Поволжья – вычитанные. Поначалу все это было серьезным препятствием для написания романа. Это знания, которые я почерпнула из книг. Читала мемуары поволжских немцев, идеологические сказки Леонида Лерда на русском языке, рассказанные якобы российскими немцами, поволжскими колхозниками. Изучала научную литературу. Посмотрела прекрасный фильм «Мартин Вагнер». Ездила в Саратов, Маркс, Энгельс, была в местных музеях. В Энгельсе меня впечатлила картина Якова Вебера «На дно!» – на ней изображены деревенские жители, которые ночью рогатинами топят вредителей в волжской проруби. Еще одним источником вдохновения стал для меня сценарий «Гофманиана» Андрея Тарковского. Я подумала, что чем глубже погружусь в тему, тем больше будет возможностей развернуть историю так, чтобы она получилось многоуровневой.
Что для вас было важно – рассказать об одном человеке, о народе, о том времени, или о вечных темах, например, об отношениях отцов и детей?
Мне важно было создать историю, которая бы работала на нескольких уровнях. Прежде всего мелодраматическую историю о «маленьком человеке» – об учителе, который в очень зрелом возрасте встречает первую любовь и остается один с новорожденным ребенком на руках, у которого трагические отношения с женщиной и с этим ребенком. Надеюсь, эта история будет понятна многим. С другой стороны, хотелось, чтобы у романа был и этнографический пласт – чтобы в нем достаточно внятно было рассказано о культуре немцев Поволжья, об их истории, чтобы этот пласт считывался, но при этом не превалировал над человеческой историей. Хотелось, чтобы читался и пласт историко-политический, в котором рассказывается о жизни республики в составе Советского Союза, об отношениях между поволжскими немцами и вождем страны – «отцом народов». Чтобы эти слои были достаточно аккуратно и гармонично сплетены, и каждому можно было найти то, что ему по душе.
Вы говорите, что главный герой остается с ребенком на руках. Вопрос, является ли Анна, Анче его родной дочерью, остается в романе открытым.
Действительно, роман написан так, что непонятно, дочь ли Анна главному герою или нет. Когда я писала, то сначала хотела дать внятный ответ на этот вопрос, но потом поняла, что это не важно: Бах дал бы жизнь ребенку, вырастил бы его вне зависимости от того, родная она ему дочь или нет, похожа ли она на него или нет. Я как автор считаю, что это чужой ребенок, которого он выращивает как своего. Но читатель сам должен ответить на этот вопрос.
В романе, с одной стороны, прослеживаются отношения Баха и его детей – Анны и Васьки, ставшего, по сути, приемным сыном, и, с другой стороны, отношения правителей России – Екатерины Великой и Сталина к российским немцам. Императрица обращается к ним: «Дети мои», вождь считает себя крестным отцом Республики и вообще отцом всех народов. Так российские немцы в романе – это родной ребенок для российского государства или приемный?
На этот вопрос я не возьмусь отвечать. Отвечу по-другому. В текстах поволжских немцев я нашла очень понятные мне чувства – любовь к Волге. Она есть в сказках российских немцев, есть в дневниках. Это подтолкнуло меня писать об этом и сделать Волгу одним из героев романа. Юрист Яков Дитц писал о себе в конце XIX века: «Мы – вольные жители Волги… Волжанин – неисправимый рецидивист, куда бы он ни переехал и где бы он ни жил, он не забывает своей Волги и рано или поздно вернется к ней». Такие слова можно написать только от чистого сердца. Эта любовь к Волге – то, что объединяло и роднило немцев со всеми народами, проживавшими в Поволжье.
Вы готовы к возможным упрекам в ваш адрес в неверной передаче идентичности российских немцев, вообще в том, что вы как человек другой культуры взялись писать о культуре чужого народа, пусть даже и живущего по соседству?
Этот вопрос меня очень беспокоил первые месяцы работы над романом. Я не знала, имею ли я право писать о поволжских немцах. Даже написав роман о татарской женщине, я получила большое количество критики из Татарстана, при том, что это родная для меня тема и я писала о вещах, которые великолепно знаю с детства. Здесь же, замахиваясь на большую историю другого народа, я долго не могла решиться с этической точки зрения писать о том, что сама не пережила, не впитала с молоком матери, а просто выучила, узнала. Но после погружения в материал я подумала, что имею право, потому что национальные вопросы в какой-то момент ушли на задний план. А на передний вышли общечеловеческие. Я писала в первую очередь о людях Советской страны. Об отце, который, отгородившись от мира, пытается спасти свою дочь и который наблюдает, как она постепенно переходит в другую культуру. Об отношениях отцов и детей, о понимании поколений. Этот общечеловеческий пласт стал для меня, в конце концов, ключевым. И я разрешила себе написать об этом.
Вы уже думаете о третьем романе? Он тоже будет об угнетенном народе в эпоху сталинизма?
Думаю. Но не хочу идти по пути перебирания угнетенных народов. Думаю о сюжете, короче и динамичнее, чем этот. О сюжете, который также случается в 20-е годы прошлого века. Но это пока все, что я могу рассказать, потому что история еще не сложилась.
Когда выйдет перевод романа «Дети мои» на немецкий язык?
Права купило издательство Aufbau, то же, в котором вышел перевод первого романа. Переводчик будет, к счастью, тот же самый – Гельмут Эттингер. Срок выхода перевода романа зависит от планов издательства. Ничего не могу сказать.
Беседовали Ольга Силантьева и Любава Винокурова
«Ложь, намек и пропаганда»: МНГ о сказках советских немцев
В Республике немцев Поволжья бытовали и «пыльные прабабкины сказки», и «новые, звонкие, хрустальные». Такое ощущение возникает после прочтения бестселлера Гузель Яхиной «Дети мои». Но какими же были эти сказки на самом деле?
Бывший шульмейстер Якоб Бах из колонии Гнаденталь записывал сказки, чтобы получить молоко для своей маленькой дочери. Он долго вспоминает «народный сюжет в наивном Кларином изложении – простой и емкий, как глиняный горшок». А его жена-немка знала множество «немудреных фольклорных фабул». Затем он создает сказку заново, – «выписывая образы и характеры, насыщая запахами и звуками, наполняя чувствами и страстями». Его волшебные истории, которые потом странным образом воплощаются в реальность, – это вплетенный в роман как будто бы аутентичный текст времен поволжской республики. Потом под заголовком «Сказки советских немцев», как следует из эпилога, они были выпущены под одной обложкой и получили пять переизданий.
В многочисленных интервью после выхода романа «Дети мои» в мае 2018 года Гузель Яхина рассказывала, что на фольклор Баха ее вдохновила книга «Сказки», вышедшая в Саратове в 1935 году, которую издал журналист Леонид Лерд.
«Это были совершенно жестоким образом переработанные сказки, выданные, кстати, не за сочинения, а реальные сказки, собранные журналистом с уст немецких колхозников, – рассказывала Гузель Яхина на книжной ярмарке-фестивале «Волжская Волна» осенью 2018 года.
Ознакомиться со сборником 1935 года «Сказки» можно на сайте Geschichte der Wolgadeutschen.
Подробнее о сказках советских немцев читайте в материале Московской немецкой газеты.
12 июня отмечается важный государственный праздник Российской Федерации – День России. Именно в этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и ее законов.
Московская немецкая газета
Дата премьеры полнометражного игрового фильма «Саратовские переборы» об истории немцев Поволжья пока неизвестна: режиссер планирует участвовать с ним в кинофестивалях. Однако предпремьерный показ уже прошел. Московская немецкая газета рассказывает о чем картина.
Германо-Российский Форум при сотрудничестве с Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова (САФУ) в Архангельске предлагает пройти сертификационный курс по ознакомлению с менеджерскими компетенциями.
В селе Кубанка Оренбургской области с большим успехом прошел X межрегиональный фестиваль «Джаз и не только».
Международный фестиваль культуры российских немцев «Немецкая слобода», ставший уже традиционным для Новосибирска событием, пройдет в этом году в сентябре. Главная цель мероприятия – знакомство с культурой, традициями и ремеслами одного из самых многочисленных народов России.
Московская немецкая газета
17 июня в онлайн-формате пройдет очередная германо-российская дискуссия из цикла «Московские беседы». Участники встречи попробуют предугадать, что ждет нас будущем и какие инновационные разработки могут в корне изменить нашу жизнь.
Конкурсы, гранты, олимпиады
Международный союз немецкой культуры подвел итоги конкурса на участие в этнокультурных встречах для детей из числа российских немцев, который проходил в течение трех месяцев. Юные участники готовили видео-ролики, в которых рассказывали о себе, своих увлечениях и талантах, делая акцент в своей видео-презентации на немецком языке и его роли в жизни.
19 июня в 10:00 по московскому времени приглашаем посетить вебинар на тему: «Немецкий с удовольствием – это так просто! Deutsch mit Spaß – wie leicht macht das!».
Вместе с Международным союзом немецкой культуры, который объединяет более 500 общественных организаций немцев России, значимые юбилейные даты отпразднуют 20 организаций. Среди них – региональный Центр немецкой культуры «Надежда» в Самаре.
5 июня в доме культуры села Гальбштадт прошел районный фестиваль-конкурс семей «Мы такие разные!», посвященный 30-летию Немецкого национального района.
Детский журнал Schrumdirum
В течение четырех дней местные школьники изучали азы журналистского ремесла, а также знакомились с немецкой историей Екатеринбурга. Результатом работы станет июльский номер журнала Schrumdirum, посвященный столице Урала.
Немцы Томской области провели серию мероприятий в честь 300-летия первой научной экспедиции в Сибири под руководством немецкого исследователя Даниэля Готлиба Мессершмидта.
В Барнауле подвели итоги Общественных встреч немцев Алтая. Руководили региональных организаций российских немцев выступили с презентацией о своей деятельности, рассказали об успешных проектах, о направлениях работы и формах сотрудничества с партнерами.
Детский журнал Schrumdirum
C 1 по 4 июня в Екатеринбурге проводится мастерская по журналистике для школьников на базе детского образовательного журнала на немецком языке Schrumdirum.
10 июня состоится вебинар от Института этнокультурного образования-BiZ на тему этнографии локальных групп российских немцев. Мероприятие будет полезно тем, кто уже хорошо знаком с этнографией российских немцев и тем, кто только начинает свое знакомство.
Сказки советских немцев книга
Гузель Яхина. Дети мои: Роман
Опубликовано в журнале Урал, номер 9, 2019
Гузель Яхина. Дети мои: Роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.
Новый роман Гюзель Яхиной совсем не похож на «Зулейху», что принесла автору известность и любовь читателей. В основе книги «Дети мои» реальные факты из жизни поволжских немцев почти за полвека, с 1910-х до конца 1940-х. Но не надо искать в романе бытового правдоподобия. Гюзель Яхина создает фантастический мир, где переплетаются мотивы немецких сказок, фольклорных и литературных. Ее фантазия наполнена метафорами и аллегориями. В немецком поселении Гнаденталь, что в переводе означает «Благодатная долина», живут не совсем обычные люди. Они носят фамилии немецких писателей, композиторов, учёных: мукомол Вагнер, свинокол Гауф, пастор Гендель, учитель Бах, хозяин богатого хутора Гримм, а еще Грассы, Брехты, Бёлли. Позднее появится партийный вождь Гофман, горбун с прекрасным лицом и уродливым телом. Кажется, что он вышел из сказок своего великого однофамильца.
Если в Гнадентале удался урожайный год, то и урожай сказочный: «…турецкий горох и персидский огурец, кунжут, репа, сурепица и лен, чечевица, подсолнух и картофельная ботва — все выстреливало из земли с поразительной мощью, грозя не то достигнуть размера деревьев, а не то и правда упереться в облака».
Первый сказочный эпизод — попытка бегства учителя Баха со странного, напугавшего его хутора Гримма. Он идет, бежит уже знакомой дорогой к берегу Волги. Путь недальний. Но берега все нет и нет. Облака затянули небо — теперь по солнцу нельзя ориентироваться. Остановились карманные часы, что прежде никогда не ломались. И оказался Бах посреди чужого леса: «Незнакомая чаща сереет нагромождением стволов, растрескавшихся и по-пьяному развалившихся во все стороны. Понизу щетинится иглами густой ежевичник, на ветвях — лохмотья прошлогоднего хмеля. Один из уродливых пней похож на сидящую за прялкой старуху». Единственный путь из этой заколдованной чащи привел Баха снова на хутор Гримма.
История любви Клары Гримм и Якоба Баха напоминает романтическую повесть. Клара и Якоб безбедно живут на хуторе среди яблоневого сада, пока грубая жизнь не разрушит сказку: «Вопреки математике и здравому смыслу яблоки в амбаре были бесконечны, оставаясь при этом свежими, словно только вчера сорванными с ветки».
Как и многое в этой книге, революция и гражданская война описаны в аллегорической форме: «…новая власть, установленная в Петербурге, отменила небо, объявила солнце несуществующим, а земную твердь заменила воздухом. Люди барахтались в этом воздухе, испуганно разевая рты, не умея возразить и не желая согласиться».
Якоб Бах составляет свой календарь, где каждый год обозначен метафорой. Так, годы 1935–1938-е, когда вся страна замерла, оцепенела в ужасе от волны репрессий, он назвал «годами Вечного Ноября». В это время появляются люди-мыши и люди-рыбы. Метафоры эти нет необходимости пояснять.
Бах сочиняет сказки. Сначала по необходимости. Это плата за молоко для Анче, дочери умершей Клары. Потом увлекается и сочиняет вдохновенно. Партийный вождь Гофман придаёт сказкам идеологическую окраску, превращает в средство политической агитации и под псевдонимом Гобах посылает в газету. В 1933 году в Москве вышла книга «Сказки советских немцев». Она выдержала несколько изданий. Гобах упомянут в одних изданиях как автор, в других — как составитель. Жители Гнаденталя с интересом читают сказки Баха-Гофмана. Потом сказки начнут сбываться. Сначала сказки со счастливым концом, а потом, к ужасу Якоба Баха, и страшные. Но он уже не в силах что-то изменить. Страшные идеологические сказки Гофмана, героя романа Гюзель Яхиной, а не великого писателя, — главная метафора книги. Мечта о светлом коммунистическом будущем обернулась для народа страшными испытаниями и бедами.
Главы о жизни немецких колонистов переплетаются с главами о вождях и большой политике. В них нет сказочных мотивов, но есть символы, метафоры, аллегории. А потому они не нарушают стилистического единства книги. Исключение составляют историко-публицистические отступления. Было бы уместнее перенести их в комментарии к основному тексту. Вождь здесь почти бог, злой бог. Он поднимается высоко над землей на самолете, по воздуху летит его поезд. «Вместо ржи и гречихи вырастали на полях за считаные минуты гигантские деревья — чугунные, цинковые, титановые, алюминиевые…» Разве это не прозрачная аллегория индустриализации и ее страшной цены? Для понимания смысла романа очень важен сон вождя о памятниках: «Земля словно шевелилась, утекала из-под многотонных ног: табуны диких степных лошадок рвались убежать от смерти, но гибли и гибли под настигающими их исполинскими сапогами». Люди для вождя только расходный материал. Их жизни, плоды их трудов легко приносятся в жертву. В этом смысл сна.
Галина Юзефович находит у Гюзель Яхиной аналогии с «Властелином колец», сравнивая обитателей Гнаденталя с хоббитами из Шира. На мой взгляд, это надуманная аналогия. Зачем обращаться к модному, но совсем здесь необязательному Толкиену? Если уж искать литературные источники романа, то это, конечно же, немецкие сказки.
Название книги «Дети мои» многозначно. Со словами «Дети мои» Екатерина Вторая обратилась к немецким мигрантам, приехавшим в Россию, чтобы начать новую жизнь. Якоб Бах — учитель. Ученики — это его дети. Анче и Васька, хотя и не родные по крови, конечно же, его дети, самые дорогие для него в этом мире. К детям из детского дома он тоже относится как к своим. Жители Гнаденталя, для которых он писал свои сказки, тоже его дети. И для фанатика Гофмана жители этой немецкой колонии — дети, которых надо просвещать, политически образовывать. Наконец, доверительное обращение «Дети мои» определяет авторскую интонацию сострадания.
О «Зулейхе» я написал когда-то «Советская сказка на фоне ГУЛАГа» 1 и не отказываюсь от этих слов. Писательский талант Гюзель Яхиной нельзя было не оценить, но главы о спецпереселенцах я по-прежнему считаю легковесными. Сказка выдавалась за правду. В книге «Дети мои» сказочная форма не помешала, а помогла высказать историческую правду. На мой взгляд, Гюзель Яхина нашла наиболее органичный для себя стиль. Вторая книга не только подтверждает неслучайность первого успеха. Она показывает творческий потенциал автора. Чем удивит Гюзель Яхина в следующий раз?