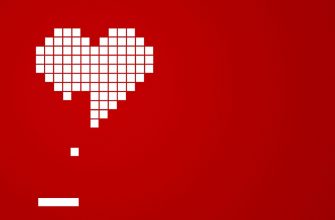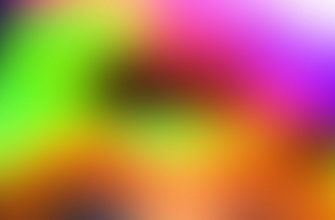Стадия интеллектуального поведения
На третьей стадии развития психики животных – стадии интеллектуального поведения – возникает способность животного отражать межпредметные связи, отражать ситуацию в целом, в результате животное способно обходить препятствия, «изобретать» новые способы решения двухфазных задач, требующих предварительных подготовительных действий для своего решения. Интеллектуальное поведение животных не выходит за рамки биологической потребности, действует только в пределах наглядной ситуации.
Можно выделить следующие признаки стадии интеллекта: 1.) Деятельность, которая на предыдущих стадиях слита в единый процесс, теперь дифференцируется на две фазы: фазу подготовки и фазу осуществления. На фазе подготовки происходит исследование ситуации. 2.) Поведение может опираться на некоторые средства, однако эти орудия не выносятся за пределы ситуации. Пример – использование обезьяной палки, чтобы достать банан, находящийся вне клетки. 3.) Найденный способ может использоваться для решения похожих ситуаций. При повторении ситуации может сразу её решить, внешневнезапное нахождение решения.
Высший этап развития психики – возникновение человеческого сознания.
Стадии по к. Фабри
К.Э.Фабри объясняет несовпадение линий биологического и психического развития животных неоднозначным соотношением между морфологией животных (на ней основа зоологическая систематика) и образом их жизни. Уровень психического развития животного определяется сложным соотношением таких факторов, как его морфология, экология и его поведенческая активность. Стадии развития психики:
элементарной сенсорной психики;
перцептивной психики (здесь же интеллект).
В каждой стадии вводится уровень: низший и высший, могут быть и промежуточные уровни.
Сравнительный анализ психики животных и человека.
Основу всех без исключения форм поведения животных составляют инстинкты, точнее, инстинктивные действия, т. е. генетически фиксированные, наследуемые элементы поведения. Вместо «разумности» следует говорить о биологической целесообразности инстинктов, а вместо «слепоты» — об их фиксированности, или ригидности.
Нужно иметь в виду, что ригидность инстинкта тоже целесообразна: она отражает приспособленность животного к постоянству определенных условий
Согласно этологической теории, инстинкт обусловлен действием как внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам относятся специальные раздражители, которые получили название «ключевых стимулов».
В естественных условиях обычно действуют несколько признаков, объединяясь в «пусковую ситуацию».К внутренним факторам относится эндогенная стимуляция центров инстинктивных действий, которая приводит к понижению порога их возбуждения.
Очень показательны в этом отношении факты расширения спектра раздражителей, вызывающих инстинктивные действия и особенно факты спонтанного возникновения последних.
Так, в одном из опытов изучалось действие токования у голубей, и голуби на разное время изолировались от самок. Оказалось, что по мере увеличения времени изоляции все больший круг предметов вызывал токующие действия. Вначале это были только самки своего вида, через несколько дней — самки другого вида, которых раньше голубь не замечал, еще позже — чучело птицы, затем — скомканный платок. Наконец, через несколько недель голубь токовал, обратившись к пустому углу.
Согласно модели К. Лоренца, обычно, т. е. в отсутствие крайнего обострения потребности, эндогенная активность центров инстинктивных действий заторможена, или блокирована. Адекватные стимулы снимают эту блокировку, действуя наподобие ключа, который открывает замок. Поэтому такие стимулы и получили название ключевых.
многие инстинктивные действия должны пройти период становления и тренировки в ходе индивидуального развития животного. Такая форма получила название облигатного (т. е. обязательного) научения.
Итак, многие инстинктивные акты «достраиваются» в индивидуальном опыте животного, и можно сказать, что такая достройка тоже запрограммирована. Она обеспечивает прилаживание инстинктивного действия к условиям среды. Конечно, пластичность инстинктивного действия при этом ограничена и определяется генетически заданной «нормой реагирования».
Гораздо большую пластичность поведения обеспечивает факультативное научение. Этим термином обозначается процесс освоения новых, сугубо индивидуальных, форм поведения. Если при облигатном научении все особи вида совершенствуются в одних и тех же (видео-типичных) действиях, то при факультативном научении они овладевают индивидуально-особенными формами поведения, приспосабливающими их к конкретным условиям существования индивид.
Важнейшее отличие языка животных от языка человека состоит в отсутствии у него семантической функции. Это значит, что элементы языка животных не обозначают внешние предметы сами по себе, их абстрактные свойства и отношения. Они всегда связаны с конкретной биологической ситуацией и служат конкретным биологическим целям.
Другим отличием языка животных является его генетическая фиксированность. В результате он представляет собой закрытую систему, которая содержит ограниченный набор сигналов, хотя количество сигналов может быть довольно большим.
Можно вполне сказать, что каждая особь в животном мире от рождения знает язык своего вида. Знание же языка человеком формируется прижизненно, в ходе общения его с другими людьми. В отличие от языка животных язык человека — открытая система: он непрерывно развивается, обогащаясь новыми понятиями и структурами.
животные не только используют, но и изготавливают или совершенствуют орудия: при использовании веточки обрывают с нее листья и боковые побеги; листья для «губки» пережевываются. Однако безусловным фактом остается неспособность животных изготавливать орудия с помощью другого орудия. Здесь проходит та грань, которая отделяет животных от человека.
главные особенности психической деятельности животных, отличающие ее от психики человека.
Вся активность животных определяется биологическими мотивами. Это хорошо выражено в часто цитируемых словах немецкого психолога А. Гельба: «Животное не может делать ничего бессмысленного. На это способен только человек»
Вся деятельность животных ограничена рамками наглядных конкретных ситуаций. Они не способны планировать своих действий, руководствоваться «идеально» представляемой целью. Это проявляется, например, в отсутствии у них изготовления орудий впрок.
Основу поведения животных во всех сферах жизни, включая язык и общение, составляют наследственные видовые программы. Научение у них ограничивается приобретением индивидуального опыта, благодаря которому видовые программы приспосабливаются к конкретным условиям существования индивида.
У животных отсутствуют закрепление, накоплениеи передача опыта поколений в материальной форме, т. е. в форме предметов материальной культуры.
Гальперин –адаптивная функция психики. Ситуации, где она не нужна:
Весь процесс обеспечивается хорошо отлаженным взаимодействием со средой (напр., дыхание, теплорегуляция)
Интеллектуальное поведение животных
Интеллектуальными действиями называются такие, в которых животное, на основе отражения существующих между предметами связей и отношений, решает новые для него задачи, не встречавшиеся ранее в его опыте.
Интеллект проявляется животным тогда, когда оно в своих действиях встречается с необычными трудностями, для преодоления которых инстинкты и навыки оказываются недостаточными. В этих случаях интеллект животного проявляется в изобретении нового способа действия, не применявшегося животным ранее.
Интеллектуальные действия являются высшей формой приспособления животных к окружающей среде. В основе их лежат сложные условнорефлекторные связи, характерные для рассудочной деятельности животных.
В процессе филогенеза интеллектуальное поведение постепенно развивается и усложняется. У животного с элементарным строением коры головного мозга и интеллектуальное поведение будет также элементарно. У животных со сложно организованной корой интеллектуальное поведение будет более сложным и совершенным.
Следующие опыты представляют интерес для характеристики интеллектуального поведения животных, находящихся на разных стадиях развития нервной системы.
1. Обходные действия (опыты Кёлера). Куры, находясь на площадке, отгороженной сеткой только с трех сторон, побегут прямо к зернам, которые насыпацы за сеткой, и будут пытаться просунуть через нее свои головы. Это будет действие безусловнорефлекторного типа, оно вызвано непосредственным раздражением и направлено прямо в сторону раздражителя. Куры не способны сразу совершить обходное действие, которое начиналось бы с движений, уводящих их на некоторое время прочь от цели. Только тогда, когда в процессе беспорядочной беготни внутри огороженного пространства какая-нибудь птица случайно приблизится к краю сетки, она обогнег столб и прибежит к насыпанным за сеткой зернам.
В данном случае имеет место сложный условный рефлекс, в котором раздражитель — вид куска мяса — связан с образовавшимся в процессе предшествующего опыта пространственным представлением. Собака более ясно, чем куры, отражает пространственную ситуацию и руководствуется этим
отражением в своем поведении. Такое ее поведение оказывается возможным потому, что собака оперирует пространственными представлениями, позволяющими ей произвести анализ воспринятого.
В аналогичных опытах обезьяна способна решить еще более трудную задачу. Находясь в комнате и увидев приманку за окном, она не делает попытки выбраться из комнаты через окно (прямо к цели), но совершает сложный обходный путь: отворачивается от цели, открывает одну дверь, проходит по коридору, затем открывает вторую дверь, ведущую наружу, и находит приманку под окном той комнаты, из которой она ушла (рис. 36, в).
2. Изобретение новых способов решения задачи при использовании разных предметов в качестве орудий. Экспериментальное изучение поведения шимпанзе (В. Кёлер, И. П. Павлов и др.) показывает, что высшие, человекообразные обезьяны обладают довольно высокой степенью развития способности к интеллектуальным действиям.
Следующие опыты по изучению интеллектуальных действий обезьян были проделаны в лаборатории сравнительной физиологии И. П. Павлова.
Шимпанзе Рафаэль был вывезен в парк и выпущен на плот, находившийся в центре озера. На соседнем плоту, на расстоянии трех-четырех метров от первого, находилась пища. Обезьяна была очень голодна, но не могла овладеть пищей обычным для нее путем, так как этому мешало разделяющее плоты водное пространство. В этих необычных условиях шимпанзе изобрел новый для него способ достать пищу: увидев на плоту длинный бамбуковый шест, он осторожно уперся им в дно озера рядом со своим плотом, затем некоторое время как бы примеривался к прыжку, оттолкнул шест в сторону второго плота, а когда шест наклонился, быстро взобрался по нему и спрыгнул на плот, на котором находилась пища.
В другом случае, когда расстояние между плотами оказалось таким, что его трудно было преодолеть с помощью прыжка, шимпанзе после нескольких попыток перебросил шест со своего плота на другой плот, установив таким образом своеобразный мост, и впервые в жизни прошел по мостику, переброшенному через водную преграду/
Шимпанзе проявил способность решать и еще более трудные интеллектуальные задачи. Когда шест, с помощью которого он со своего плота переходил на другой, оказался короче обычного, а шест необходимой длины находился на третьем плоту, шимпанзе решал промежуточные задачи: с помощью короткого шеста он перепрыгнул на третий плот, взял находящийся на нем длинный шест, возвратился на свой плот и только тогда с помощью принесенного длинного шеста перешел на плот с пищей. Если третий плот очень удален, шимпанзе догадывался воспользоваться лодкой, чтобы добраться до этого плота и взять находящийся на нем шест требуемой длины.
Использование разнообразных предметов в качестве орудий при решении задач, подобных описанным, требует от шимпанзе, хотя и элементарного, но все же мышления — понимания связей, существующих между орудием и целью, представления ожидаемого от применения орудия результата и т. д. «Вы точно воочию отчетливо присутствуете при образовании нашего мышления, видите все его Подводные камни, все его приемы», — говорит И. П. Павлов, лично наблюдавший в Колтушах опыты с шимпанзе.
Интеллектуальное поведение животных характеризуется следующими особенностями:
1. Животные проявляют способность к интеллектуальным действиям при возникновении препятствий на пути к достижению цели. Если можно овладеть пищей обычным образом, с помощью безусловных рефлексов и выработанных в течение жизни навыков, интеллектуальные действия не наступают.
2. Интеллектуальные действия возникают для решения новой задачи и состоят в изобретении нового способа действия.
3. Эти действия не имеют шаблонного характера, они индивидуализированы: одни животные решают задачу одним образом, другие — иначе.
4. Обезьяны пользуются при этом различными предметами (шестами, палками и т. д.) как орудиями. При этом те или другие предметы выбираются как орудия не путем предварительного обдумывания, а в результате непосредственного восприятия связи их с другими: как правило, обезьяны предварительно не изготовляют и не отыскивают орудий, не сохраняют предметов, которые были ими применены как орудия, для того чтобы воспользоваться ими впредь.
Правда, В. Кёлер обнаружил в своих опытах попытку шимпанзе удлинить палку, которая оказалась недостаточно длинной для овладения целью; но это действие еще очень далеко от операций по изготовлению орудий даже у первобытных людей. Наблюдения над шимпанзе в естественных условиях (Дж. Гудалл, заповедник Ломбестрим в Кении, Африка, 1955) показывают, что шимпанзе могут иногда предварительно обрабатывать естественные предметы, чтобы сделать их пригодными для определенной цели. Так, шимпанзе отламывает ветку и освобождает ее от листьев, прежде чем просунуть в отверстие термитной кучи и потом слизнуть собравшихся на нее термитов. (Нечто аналогичное наблюдал в устроенном им вольере и В. Кёлер: шимпанзе усаживался рядом с дорожкой, по которой ползли муравьи, клал на нее соломинку и затем слизывал забравшихся на нее муравьев)’. Интересно то, что шимпанзе не всегда сначала находят термитную кучу и затем ищут нужную им палку; часто они заранее сламывают и освобождают от листьев ветку и подолгу таскают ее за собой, переходя от одной термитной кучи к другой, пока не найдут нужную им кучу.
5. Интеллектуальные действия животных имеют примитивный характер и не вытекают из знания объективных законов природы. Интеллектуальные действия даже высших обезьян по своему характеру не выходят за пределы круга задач, выдвигаемых естественными условиями их жизни.
6. У животных интеллектуальные действия не занимают главенствующего положения в их поведении. Главными формами приспособления к окружающей среде у них остаются инстинкты и навыки. Даже у высших животных интеллектуальные действия проявляются от случая к случаю: они возникают у них, но не приобретают основного значения и не закрепляются в их опыте.
7. Изобретенные способы действий не передаются от одного животного к другому и не являются, таким образом, продуктом видового опыта. Они остаются достоянием только того отдельного животного, которое их обнаруживает.
РАЗДЕЛ I. Эволюционное введение в психологию
Глава 2. Эволюция психики
«Интеллектуальное» поведение животных
Описанные формы возникновения индивидуально изменчивого поведения не являются, однако, высшей границей эволюции поведения в животном мире.
У позвоночных, стоящих на вершине эволюционной лестницы, в частности у приматов, возникают новые формы индивидуально изменчивого поведения, которые с полным основанием могут быть обозначены как «интеллектуальное» поведение.
Особенность «интеллектуального» поведения животных заключается в том, что процесс ориентировки в условиях задачи не протекает в условиях двигательных проб, а начинает предшествовать им, выделяясь в особую форму предварительной ориентировочной деятельности, в процессе которой начинает вырабатываться схема (программа) дальнейшего решения задачи, в то время как движения становятся лишь исполнительным звеном в этой сложно построенной деятельности. Таким образом, на высших этапах эволюции начинают формироваться особенно сложные виды поведения, имеющего сложную расчлененную структуру, в которую входят:
• ориентировочно — исследовательская деятельность, приводящая к формированию схемы решения задачи;
• формирование пластически изменчивых программ движений, направленных на достижение цели;
• сличение выполненных действий с исходным намерением.
Характерным для такого строения сложной деятельности является ее саморегулирующийся характер:
• если действие приводит к нужному эффекту, оно прекращается;
• если оно не приводит к нужному эффекту, в мозг животного поступают сигналы о «рассогласованности» результатов действий с исходным намерением, и попытки решить задачу начинаются снова.
Такой механизм «акцептора действия» (П. К. Анохин), т. е. динамического контроля действия, является важнейшим составным звеном всякого индивидуально изменчивого поведения животного, но проявляется с отчетливостью в наиболее сложной фазе эволюции поведения — интеллектуальном поведении.
Два существенных явления, зачатки которых можно видеть уже на наиболее ранних ступенях эволюции позвоночных, предшествуют формированию этой наиболее высокой формы поведения животных. Первым из них является возникновение особой формы ориентировочной деятельности, названной советским исследователем Л. В. Крушинским «экстраполяционным рефлексом»; вторым является факт более усложнявшихся форм развития памяти у животных.
В наблюдениях, проведенных Л. В. Крушинским, установлено, что некоторые животные проявляют в своем поведении способность подчиняться не непосредственному восприятию предмета, но прослеживать его движения и ориентироваться на ожидаемое перемещение объекта. Известно, что собака, перебегающая улицу, не бежит прямо под движущуюся автомашину, а делает петлю, учитывая движение машины и даже развиваемую ею скорость. Этот рефлекс, «экстраполирующий» наблюдаемое движение и учитывающий перемещение, Л. В. Крушинский проследил в ряде экспериментов.
В этих экспериментах животное помещалось перед трубой, которая в середине имела разрыв. На глазах у животного к проволоке, проходящей через трубу, прикреплялась приманка, которая двигалась по трубе; она появлялась перед глазами животного в разрыве трубы и двигалась дальше, пока не появлялась в конце трубы. Животное помещалось перед разрывом трубы и наблюдало движение приманки.
Данные наблюдения показали, что животные, стоящие на более низкой ступени эволюции, и, в частности, животные, которым свойственно лишь собирать готовую пищу (например, курица), непосредственно реагировали на место, где появлялась приманка, и не отходили от него. В противовес этому животные, стоящие на более высокой ступени эволюции, и, в частности, животные, ведущие хищный образ жизни, прослеживающие добычу и преследующие ее (ворон, собака), следили за движением приманки и, «экстраполируя» ее движение (очевидно, направляя свое поведение движением глаз), обегали трубу и ожидали приманку в месте ее появления.
«Экстраполяционный рефлекс», который имеет особую форму — «предвосхищающего» поведения, является одним из важных источников для формирования наиболее высоких «интеллектуальных» видов индивидуально изменчивого поведения высших позвоночных.
Выше было отмечено, что вторым фактом, создающим существенные условия для формирования «интеллектуального» поведения высших позвоночных, является возрастающая сложность процесса восприятия и большая прочность памяти на последовательных ступенях эволюции животных.
Известно, что если низшие позвоночные реагируют лишь на определенные признаки воздействий, идущих, из внешней среды, то высшие позвоночные больше реагируют на целые комплексы знаков или на образы окружающих предметов. Эта реакция животных была детально изучена советским физиологом академиком И. С. Беритовым и составляет важнейшее условие для эволюции сложных форм поведения.
Одновременно с формированием образного восприятия на высших этапах эволюции позвоночных наблюдается возрастающая прочность образной памяти. Этот факт был детально прослежен в экспериментах с так называемыми «отсроченными реакциями» животных.
Эксперименты с отсроченными реакциями проводились многими американскими исследователями, советским психологом Н. Ю. Войтонисом и польским физиологом Ю. Конорским. Суть эксперимента заключалась в следующем. Животное помещалось перед герметически закрытым ящиком, в который на глазах животного клалась приманка.
Животное, привязанное к стойке, задерживалось па привязи в течение известного времени, после чего отпускалось. Если в памяти животного сохранялся след приманки, положенной в ящик, оно сразу же бежало к этому ящику, если этот след исчезал, животное к ящику не подбегало.
В более сложных экспериментах, которые ставили задачей проверить четкость сохранившегося у животного следа, положенная в ящик приманка незаметно подменялась другой. Если след первой приманки у животного сохранялся, то подбегая к ящику и находя другую приманку, — оно ее брало. Это было признаком того, что у животного сохранился избирательный образ той приманки, которую оно видело.
В других экспериментах животное помещалось между двумя ящиками, в один из которых на глазах у животного помещалась приманка. После истечения некоторого времени животное спускалось с привязи. Если след от приманки, положенный в один из ящиков, сохранялся, то животное бежало к этому ящику, если след не сохранялся, направленного движения у животного не было.
Эксперименты с отсроченными реакциями показали, что на последовательных ступенях эволюционного развития позвоночных длительность сохранения соответствующих образов возрастает (табл. 1.5).
Таблица 1.5 — Длительность сохранения следов однократно вызванной образной памяти у различных животных
Естественно, что длительное сохранение образов памяти увеличивается по мере усложнения мозговых структур и создает второе важное условие для возникновения высших «интеллектуальных» форм поведения животного.
Систематические исследования «интеллектуального» поведения высших животных (обезьян) были начаты в 20–х гг. прошлого века известным немецким психологом В. Кёлером. Для изучения этой формы поведения В. Кёлер ставил обезьян (шимпанзе) в условия, где непосредственное достижение цели было недоступно, и обезьяна должна была ориентироваться в сложных условиях, в которых дана цель, и либо использовать обходной путь, чтобы получить приманку, либо обратиться для этой цели к использованию специальных орудий.
Опишем три типичных ситуации, в которых В. Кёлер проводил свои исследования «интеллектуального» поведения обезьяны.
Первая ситуация требовала «обходного пути». Обезьяна помещалась в большую клетку, рядом с которой была положена приманка, находившаяся на таком расстоянии, что рука обезьяны не могла ее достать. Для достижения цели обезьяна должна была прекратить попытки непосредственно достигнуть цели и использовать обходной путь через дверь, расположенную в задней стене клетки.
Вторая ситуация была близка к только что описанной, т. е. обезьяна помещалась в закрытую клетку, которая на этот раз имела двери. Приманка располагалась также в отдалении, и обезьяна не могла достать ее рукой. Однако в отличие от первой ситуации перед клеткой на расстоянии вытянутой руки лежала палка. Обезьяна могла достать приманку, дотянувшись до палки, и при ее помощи достигнуть цели. В усложненных экспериментах приманка была расположена еще дальше, но в поле зрения обезьяны лежали палки: короткая — на расстоянии руки, и длинная — несколько дальше. Решение задачи заключалось в том, что обезьяна должна была осуществить более сложную программу поведения. Сначала дотянуться до ближайшей — короткой палки, затем с ее помощью достать длинную палку, расположенную дальше от нее, и уже с помощью этой палки достать приманку.
Наконец, в третьем варианте экспериментов приманка подвешивалась так, что обезьяна непосредственно не могла ее достать. Однако на этой же площадке были разбросаны ящики; обезьяна должна была подтащить ящики к приманке, поставить их один на другой и, взобравшись на эти ящики, достать приманку.
Исследования, проведенные В. Кёлером, позволили ему наблюдать следующую картину.
Сначала обезьяна безуспешно пыталась непосредственно достать приманку, тянулась к ней или прыгала. Эти безуспешные попытки могли продолжаться длительное время, пока обезьяна не истощалась и не бросала их.
Затем наступал второй период, который заключался в том, что обезьяна неподвижно сидела и лишь рассматривала ситуацию; ориентировка в ситуации переносилась здесь из развернутых двигательных проб в «зрительное поле» восприятия и осуществлялась с помощью соответствующих движений глаз.
После этого наступал решительный момент, который В. Кёлер описывал как неожиданное появление «переживания». Обезьяна либо сразу же направлялась к дверце, расположенной в задней стенке клетки и «обходным путем» доставала приманку, либо переставала непосредственно тянуться к приманке, подтягивала к себе палку и с ее помощью доставала, либо подтягивала одну палку, доставала ею вторую, более длинную и уже этой палкой доставала приманку; наконец, в последней ситуации обезьяна прекращала всякие попытки непосредственно достать приманку, оглядывалась вокруг, а затем сразу подтаскивала ящики, ставила их один на другой и, взобравшись на них, доставала приманку.
Характерным для всех этих экспериментов был тот факт, что решение задачи перемещалось из периода непосредственных проб в период предшествующего попытке наблюдения, и движения обезьяны становились лишь исполнительным актом для осуществления заранее выработанного «плана решения».
Именно это и дало основания В. Кёлеру рассматривать поведение обезьяны как пример «интеллектуального» поведения.
Если описание поведения обезьян в экспериментах В. Кёлера является исчерпывающим, то объяснение тех путей, которыми животное приходит к «интеллектуальному» решению задачи, представляет большие сложности, и этот процесс трактуется разными исследователями неодинаково.
Известный американский психолог Р. Йеркс, повторивший исследование В. Кёлера, считает возможным сблизить эти формы поведения обезьяны с человеческим интеллектом и антропоморфически рассматривает их как проявления «творческого озарения».
Австрийский психолог К. Бюлер привлекает для объяснения этого поведения прежний опыт животного и считает, что использование орудий обезьянами следует рассматривать как результат переноса прежнего опыта (обезьянам, живущим на деревьях, приходилось притягивать к себе плоды за ветки).
Сам В. Кёлер высказывает предположение, что в «интеллектуальном» поведении обезьян анализ ситуации перемещается из сферы движений в план восприятия, и обезьяна, рассматривая ситуацию, «сближает» входящие в нее предметы в «зрительном поле», замыкая их в известные «зрительные структуры». Последующее решение задачи есть, по мнению В. Кёлера, лишь осуществление «зрительных структур в реальных движениях». Подтверждение этой гипотезы В. Кёлер видит в том факте, что в случаях, когда палка и приманка (плод) или две палки, которые обезьяна должна последовательно достать, расположены так, что они не попадают в одно зрительное поле, задача становится неразрешимой для обезьяны.
Свою гипотезу В. Кёлер пытается подтвердить экспериментами, в которых обезьяна должна раньше приготовить орудие, которое она в дальнейшем использует, чтобы достать приманку, обезьяна должна вставить одну бамбуковую палку в другую, с тем чтобы, удлинив ее, достать плод. Эти действия оказываются для обезьяны гораздо труднее и могут быть выполнены только в случае, если концы обеих палок попадают в наглядное поле; такое совмещение обеих палок в одном зрительном поле, по мнению В. Кёлера, и может привести к нужному решению задачи.
Вопрос о механизмах, лежащих в основе возникновения «интеллектуального» поведения обезьяны, нельзя считать окончательно решенным, и если одни исследователи противопоставляют его более элементарным формам индивидуально изменчивого поведения животных, то другие (как например, И. П. Павлов, проводивший наблюдения над поведением обезьян) считают возможным не противопоставлять его более простым формам поведения и рассматривают «интеллектуальное» поведение обезьян как своего рода «ручное мышление», выполняемое в процессе проб и ошибок и приобретающее более богатый характер лишь в силу того, что руки обезьян, освободившиеся от функции ходьбы, начинают осуществлять наиболее сложные формы ориентировочной деятельности.